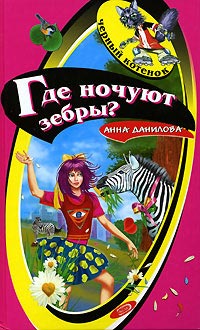поплыл корабль, на него налетел страшный шторм, и чудом выживший Робинзон был выброшен волной на сушу. Когда они смотрели этот диафильм у Аси, Наташе было очень жалко Робинзона – одинокого, несчастного, затерявшегося так далеко от дома, но сейчас у нее было до того паршивое настроение, что никакого сочувствия Робинзон не вызывал: сидел бы дома, в ус не дул, ничего бы не случилось.
Из коридора доносился фальцет Надежды Яковлевны. Та бросилась обзванивать своих подруг, чтобы сообщить им о чрезвычайном происшествии с соседом. Голос у нее был взволнованный, но при этом в нем чувствовался некий азарт, даже задор, потому что произошло нечто из ряда вон, нечто интересное.
– Леночка! Ты можешь себе представить, – верещала Надежда Яковлевна. – Три дня его не было, потом явился – вдребезги, просто вусмерть, на человека не похож, и прямо с порога повалился на пол. И нам с Наташей пришлось его волочить… Ну ладно, пойду я, у меня еще много дел. Нужно Дюше на выходные приготовить.
Но возвращаться на кухню она не спешила и уже набирала номер следующей по списку подруги.
– Катюша, дорогая! У нас тут такое стряслось! Три дня этого алкоголика где-то носило, а потом нате, объявился… Почему у всех соседи, а нам так не повезло.
Наташа вздохнула. Она машинально крутила пленку, не читая текст. Робинзон уже построил плот и возил с корабля на остров уцелевшие припасы. Да-да, ей тоже было знакомо это ощущение, что не повезло – всему миру не повезло с ней, Наташей.
С самого раннего детства ее не покидало чувство собственной неправильности. Она была со всех сторон не такая, не такая, как надо: слишком длинная, слишком сутулая, слишком неряшливая, левша.
Из-за ее роста на детсадовских утренниках ей вечно не могли подобрать ни роль, ни костюм – где вы видели такого зайчика, тут скорей жираф или лама, говорила воспитательница, но животные эти в советском лесу, как известно, не водились, и Наташе доставалась роль Емелиной печи. На нее надевали огромную картонную конструкцию, и по щучьему веленью она двигала эту печь по сцене, так что публика в зале видела ее только в самом конце спектакля, когда все дети выходили на поклон.
Наташа постоянно вырастала – из пальто, из платьев, из школьной формы, из обуви, – и склонившись перед началом учебного года над очередной парой туфель, которые Наташе стали малы всего-то за пару месяцев, мама охала, что опять ей придется толкаться в очередях и занимать деньги. «Или, может, спросим у Надежды Яковлевны, вдруг снова перепадет что-то от Светы?» – говорила она с надеждой в голосе. От Светы, соседкиной младшей внучки, правда, если что и перепадало, то было оно ношеное-переношенное – самой Светой, а до этого ее старшей сестрой.
Мама растила Наташу одна, без чьей-либо помощи, на скромную зарплату участкового врача. Бабушка умерла, когда Наташа была маленькая. Денег не хватало, и мама часто брала полторы ставки. Она приходила поздно, после восьми, ужинала, потом мыла в квартире места общественного пользования: полы в коридоре и кухне, туалет и ванную, дежурила она три недели через одну – за себя, за Наташу и за Геннадия Петровича, у Надежды Яковлевны выходила только неделя, – и садилась отписывать карты – до полуночи. Мама любила повторять, что даже во сне ей снится, как она хочет спать.
Когда Наташа только пошла в детский сад, мама забирала ее вечером и таскала с собой по вызовам, потому что не успевала оббежать весь участок за день – зимой возила на санках, осенью топали пешком. Наташу мама обычно оставляла в подъезде или на улице, но однажды, когда было совсем холодно, взяла с собой в квартиру, и Наташа заболела скарлатиной. После этого мама отдала ее на пятидневку.
Что Наташа левша, мама заметила рано. Кольца на пирамидку девочка надевала левой рукой, левой рукой копала совочком в песочнице, и ложку, и карандаш, и кисточку – тоже держала левой. Пока в один прекрасный день в детский сад не пришла какая-то комиссия и не устроила разнос: как она у вас такая в школу пойдет? После этого воспитательница стала забинтовывать Наташе пальцы левой руки, и попробуй теперь взять в эту руку ложку или карандаш.
Наташа терпела – а что еще ей оставалось делать? – но только теперь суп в ложке разливался по пути в рот, рисунки выходили корявыми, а аппликации ей не давали делать после того, как она порезалась ножницами и залила кровью башню Кремля, которую вырезала из бархатной бумаги. И даже на ритмике, когда мальчики припадали на одно колено, а девочки должны были обойти их несколько раз по кругу, музручка долго боролась с Наташей, чтобы та протягивала кавалеру правую, а не левую руку, двигалась по часовой стрелке и юбочку отводила слева, а не справа, чтобы не портить симметрию.
В одном только Наташа не уступила всем этим мерзким детсадовским теткам в белых халатах: сопливых мальчишек, дразнивших ее кто за высокий рост, а кто просто так, без повода, она била исключительно левой рукой – метко, точно, по лицу, так что мгновенно поднимался вой, и больше ее, как правило, не задирали.
Дома замученной мамы, получавшей ребенка только на выходные, хватало только на то, что молча перекладывать из Наташиной левой руки в правую – ложку, ручку, зубную щетку. Зато Надежда Яковлевна не упускала возможности повоспитывать соседскую девочку: ну кто так держит, ну на кого ты похожа, ты хоть мать пожалей – думаешь, легко ей одной тебя растить?
В первый день школы, когда все с замиранием сердца склонились над прописью и Раиса Григорьевна скомандовала «берем ручку в правую руку», наивная Наташа решила попытать счастья и вывела первые несколько строчек левой, думая, что, может, учительница не заметит, все-таки они с Асей сидели на последней парте. Однако деревянная учительская линейка, приземлившаяся у нее на пальцах, мгновенно развеяла все Наташины надежды.
Наташа покорилась, но ничего путного из этого все равно не вышло. Раиса Григорьевна постоянно рявкала на Наташу за корявый почерк, за неряшливые прописи, за белые манжеты, измазанные синими чернилами. А если выяснялось, что домашнее задание Наташа выполнила левой рукой, потому что наклон был другой и буквы выглядели подозрительно аккуратными, Раиса Григорьевна перечеркивала все красной ручкой и заставляла переделывать, а в дневник писала: «Халтурит».
Но левая рука все равно тянулась к ложке, вилке и карандашу, и Наташа не понимала, зачем чинят над ней эту расправу. Ведь она знает, как выполнить