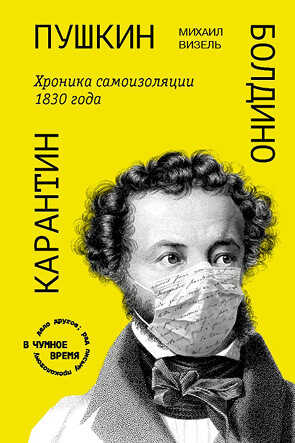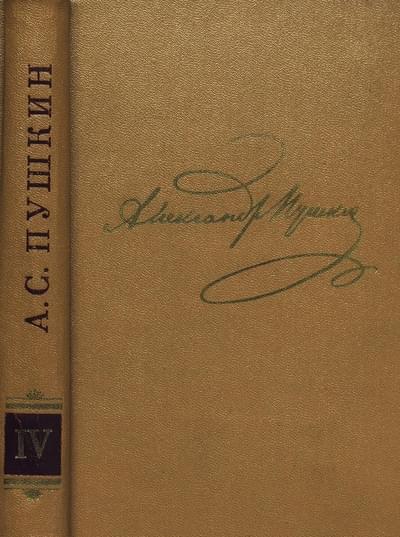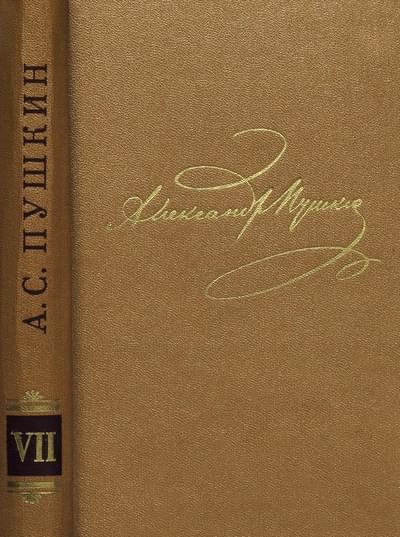veille de mon départ. Cela ne m’a pas empêché d’être retenu près de Sévasleika, vu que le gouverneur avait négligé d’envoyer savoir à 1’inspecteur que la quarantaine n’existait plus. Si vous pouviez vous imaginer seulement le quart des désordres que ces quarantaines ont entraîne, vo<us> ne concevriez pas comment on peut s’en débarrasser. Adieu. Mes respectueux hommages à Maman. Je salue de tout mon cœur Mlles vos sœurs et Mr Serge.
2 [oct] déc.
Platava
Бесполезно высылать за мной коляску, меня плохо осведомили. Я в карантине с перспективой оставаться в плену две недели – после чего надеюсь быть у ваших ног.
Напишите мне, умоляю вас, в Платавский карантин. Я боюсь, что рассердил вас. Вы бы простили меня, если бы знали все неприятности, которые мне пришлось испытать из-за этой эпидемии. В ту минуту, когда я хотел выехать, в начале октября, меня назначают окружным надзирателем, – должность, которую я обязательно принял бы, если бы не узнал в то же время, что холера в Москве. Мне стоило великих трудов избавиться от этого назначения. Затем приходит известие, что Москва оцеплена и въезд в нее запрещен. Затем следуют мои несчастные попытки вырваться, затем – известие, что вы не уезжали из Москвы – наконец ваше последнее письмо, повергшее меня в отчаяние. Как у вас хватило духу написать его? Как могли вы подумать, что я застрял в Нижнем из-за этой проклятой княгини Голицыной? Знаете ли вы эту кн. Голицыну? Она одна толста так, как все ваше семейство вместе взятое, включая и меня.
Право же, я готов снова наговорить резкостей. Но вот я наконец в карантине и в эту минуту ничего лучшего не желаю. <Вот до чего мы дожили – что рады, когда нас на две недели посодят под арест в грязной избе к ткачу, на хлеб да на воду! – Нижний> больше не оцеплен – во Владимире карантины были сняты накануне моего отъезда. Это не помешало тому, что меня задержали в Севаслейке, так как губернатор не позаботился дать знать смотрителю о снятии карантина. Если бы вы могли себе представить хотя бы четвертую часть беспорядков, которые произвели эти карантины, – вы не могли бы понять, как можно через них прорваться. Прощайте. Мой почтительный поклон маменьке. Приветствую от всего сердца ваших сестер и Сергея.
Платава
Задумывая этот «болдинский цикл», мы в редакции предполагали, что наша реальная самоизоляция закончится примерно в одно время с пушкинским карантином в письмах – за две-три недели, как раз на 18 писем. Но вышло иначе: наш реальный карантин совпал не с пушкинским эпистолярным, а с пушкинским реальным же – те же три с лишним месяца.
1 декабря 1830 года он в третий раз – совсем как в русских сказках («в третий раз закинул он невод»… – успел ли Александр Сергеевич обратить на это внимание?) выехал из Болдина – на сей раз окончательно. И пишет невесте в прямом смысле слова с большой дороги короткую «сопроводительную записку» и на следующий день – чуть более длинное письмо. Довольно, прямо сказать, сумбурное и непривычно откровенное.
Он явно никак не может успокоиться из-за упреков и колких намеков невесты – писанных, как он, со своим обостренным чутьем на тексты догадывается, под диктовку маменьки. И идет на беспрецедентный шаг – пишет записку Наташе на обороте чужого частного письма – того самого любезного сопроводительного письма Дмитрия Языкова к официальному разрешению на выезд, которое мы уже видели. Конечно, эпистолярный жанр в то время еще считался вполне литературным, письма, особенно из-за границы и из столиц в провинцию, давали читать и переписать, но это явно не тот случай. А на следующий день пишет отдельно – но необыкновенно грубо по отношению к даме, к той самой княгине Голицыной, из-за которой и возникла размолвка. И которая, как он сам уверяет, решительно ни в чем не виновата.
Как могли вы подумать, что я застрял в Нижнем из-за этой проклятой княгини Голицыной? Знаете ли вы эту кн. Голицыну? Она одна толста так, как все ваше семейство вместе взятое, включая и меня.
Автор этих «дорожных жалоб» явно крайне раздосадован. Как тут не вспомнить одноименное трагикомическое стихотворение, начатое еще год назад, но законченное как раз только что, в Болдине:
Кадр из диафильма «Пушкин. Годы странствий».
Художник Е. Лехт.
Из оцифрованного собрания РГДБ
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
<…>
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
<…>
Да и как не пожаловаться. Наконец выехал – но сломалась проклятая коляска! А тут еще эта Голицына – как на грех, родственница военного генерал-губернатора Москвы, к которому приходится обращаться за помощью. Кстати, едва ли Пушкин предполагал, что 18-летняя барышня сама в состоянии о чем-то попросить генерала. Он как бы случайно проговаривается, что прекрасно понимает: о содержании его писем будущая теща тоже осведомлена.
Поэтому – откровенность о неприятных хлопотах, о которых он предпочитал умалчивать месяц назад, и такая неожиданная грубость в адрес ни в чем не повинной Прасковьи Николаевны Голицыной. Дескать – как вы могли подумать, что у меня к ней может быть какой-то романтический интерес?? Пушкин не просто «готов наговорить резкостей», он уже их вовсю говорит. И не случайно здесь же прямо причисляет к семейству Гончаровых и себя. И одновременно – подпускает довольно грубую лесть: у самих-то барышень Гончаровых талии на загляденье.
Да и сам Александр молодец хоть куда, что он тоже прекрасно понимает. В 1824 году он с гордостью писал брату Льву: «На днях я мерился поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. След. из двух одно: или я имею талью