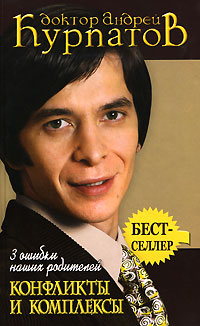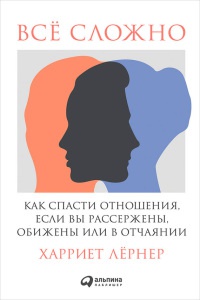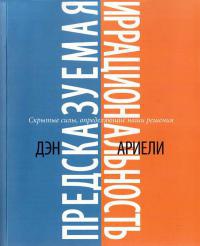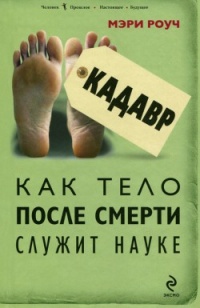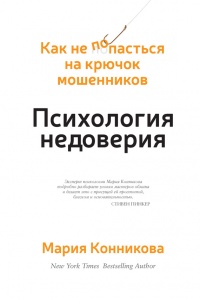Дети привязываются к тому, кто берет на себя основную заботу о них. Вместе с тем дальнейшая жизнь ребенка сильно зависит от характера этой привязанности – насколько ребенок чувствует в ней себя защищенным. Чувство защищенности развивается, когда взрослый использует эмоциональную подстройку. Подстройка начинается на самых неуловимых физических уровнях взаимодействия между ребенком и взрослым, давая ребенку почувствовать, что его понимают. Как сказал исследователь привязанности из Эдинбурга Колвин Тревартен: «Мозг координирует ритмичные движения тела, чтобы они выполнялись в такт с работой мозга других людей. Младенцы улавливают ритмичность маминого голоса и учатся ей еще до своего рождения» (4).
В четвертой главе я рассказал про открытие зеркальных нейронов, которые обеспечивают связь между мозгом разных людей, предоставляя нам способность испытывать эмпатию. Эти зеркальные нейроны начинают работать сразу же после рождения. Когда исследователь Эндрю Мелтзофф из Орегонского университета сжимал губы или высовывал язык перед рожденными шесть часов назад младенцами, они сразу же повторяли его движения (5). (Новорожденные способны сфокусировать свое зрение только на предметах, расположенных на расстоянии от двадцати до тридцати сантиметров от их глаз – как раз чтобы видеть человека, который держит их на руках.)
Подражание – наш самый фундаментальный социальный навык. Благодаря ему мы автоматически улавливаем и повторяем поведение наших родителей, учителей и сверстников.
Большинство родителей настолько непроизвольно устанавливают связь со своими маленькими детьми, что почти никогда не отдают себе отчета в том, как происходит подстройка. Благодаря же приглашению своего друга, исследователя привязанности Эда Троника мне выпала возможность более пристально понаблюдать за этим процессом. Через одностороннее зеркало в Гарвардской лаборатории развития человека я наблюдал за тем, как мать играет со своим сыном, усаженным в детском кресле напротив нее.
Она сюсюкалась с ним, а он повторял за ней звуки, и им было весело – пока мама не нагнулась, чтобы ткнуть в него носом, а ребенок, оживившись, не дернул ее за волосы. Мать оказалась застигнута врасплох, взвизгнула от боли и оттолкнула его руку, в то время как ее лицо искривилось от злости. Младенец тут же отпустил, и они отстранились друг от друга физически. Удовольствие для них обоих сменилось неприязнью. Явно испугавшись, младенец закрыл руками лицо, чтобы не видеть своей разозлившейся мамы. Мать, в свою очередь, увидев, что ребенок расстроился, снова на нем сосредоточилась и начала издавать успокаивающие звуки, чтобы загладить случившееся. Ребенок продолжал держать глаза закрытыми, однако вскоре ему снова захотелось близости. Он стал выглядывать из-за рук, чтобы проверить, миновала ли опасность, в то время как мать приблизилась к нему с обеспокоенным выражением лица. Когда она начала щекотать его пузо, он опустил руки и разразился радостным смехом – гармония была восстановлена. Младенец и его мама снова синхронизировались. Весь этот цикл наслаждения, прерывания, восстановления и вновь наслаждения занял меньше двенадцати секунд.
Троник и другие исследователи показали, что когда маленькие дети и взрослые синхронизированы на эмоциональном уровне, то они синхронизированы и физически (6). Младенцы не в состоянии управлять своим собственным эмоциональным состоянием, не говоря уже про частоту сердцебиения, гормональную секрецию и активность нервной системы, сопровождающие эмоции.
Когда ребенок синхронизирован с заботящимся о нем взрослым, то его радость и чувство связи отражаются в равномерном сердцебиении и дыхании, а также низких уровнях гормонов стресса. Его тело спокойно – спокойны и его эмоции.
Когда же эта музыка прерывается – как это обычно частенько происходит в повседневной жизни, – меняются и все эти физические параметры. Понять, что равновесие восстановилось, можно по успокоившейся физиологии.