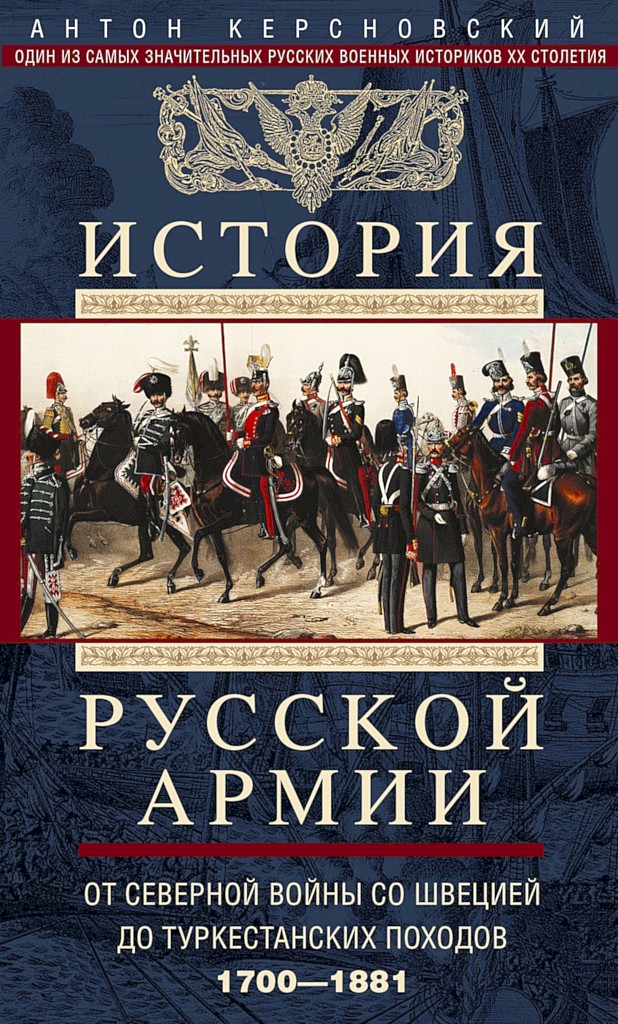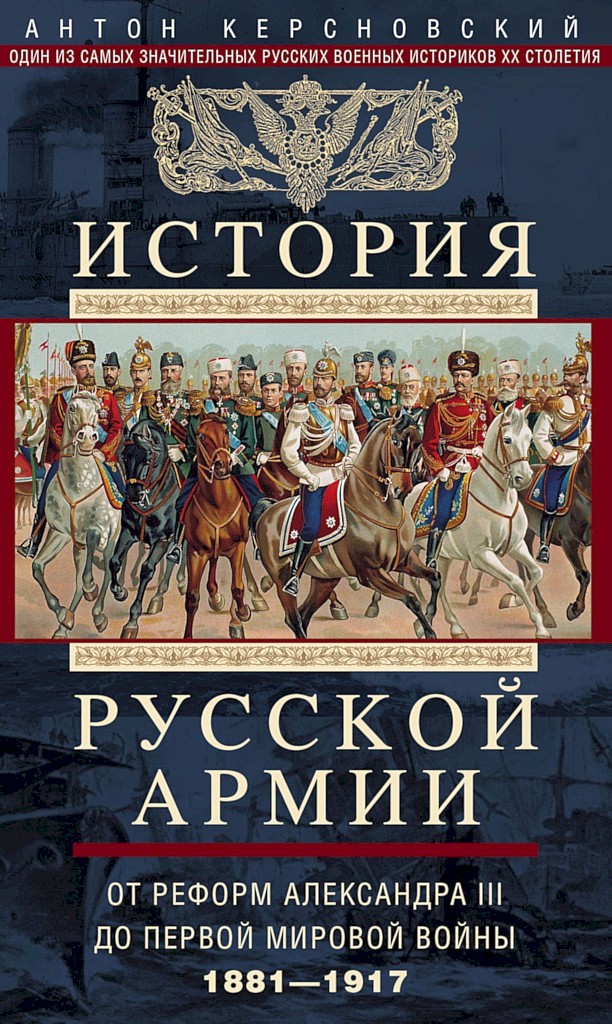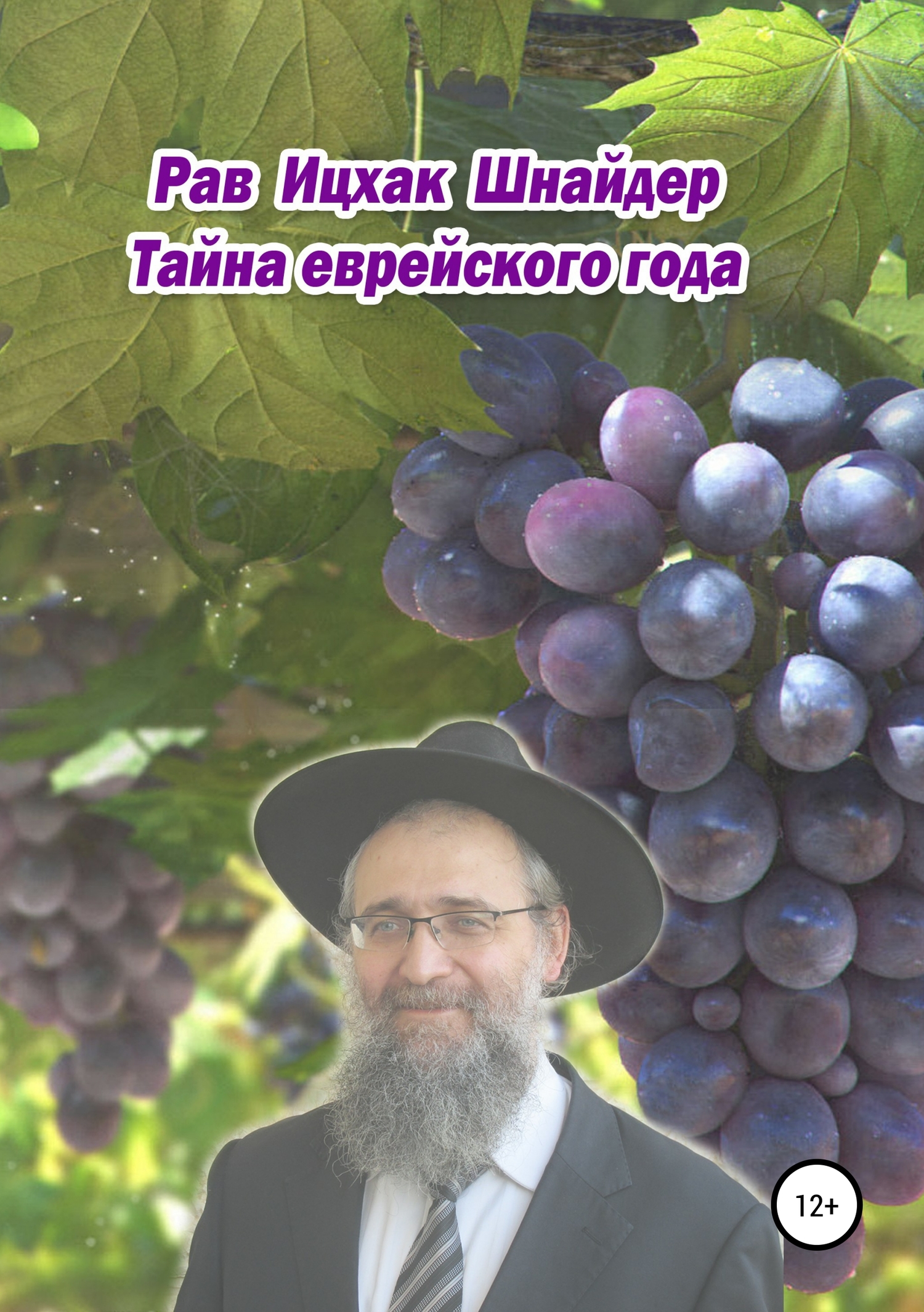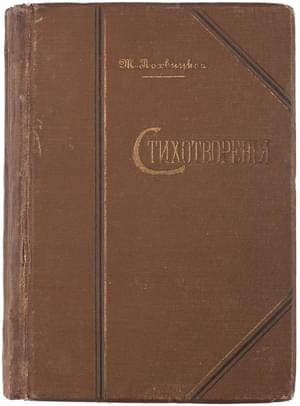разыскан полицией и показан толпе, но пьяную толпу невозможно было успокоить. В отчете, основанном на официальных донесениях, событие описано так: «Разгром начался (7 июня, вечером) с еврейской молельни, переполненной молившимися, после чего были разбиты пять домов, в которых проживали евреи. Убито при этом 6 взрослых и один мальчик, сильно ранено 5 евреев, из коих двое вскоре умерло. По отзыву нижегородского губернатора, главным мотивом погрома было стремление к грабежу: не только деньги, но и все годное к употреблению расхищалось. Беспорядки в Нижнем произошли потому, что в народе сложилось убеждение в полной почти безнаказанности самых тяжелых преступлений, если только таковые направлены против евреев, и потому, что большая часть еврейских семейств известны были как люди зажиточные. Следствием вполне выяснено, что пред нападением на дом, в котором помещалась контора Дайцельмана (московского коммерсанта, зверски убитого громилами), толпа руководилась криками: «Идем к Дайцельману, там есть чем поживиться!» Нижегородская Варфоломеевская ночь испугала даже высшую администрацию. По ходатайству губернатора Баранова убийцы были преданы военному суду и понесли тяжелую кару. Однако тот же губернатор счел нужным, для успокоения русской народной совести, распорядиться о высылке из Нижнего тех евреев, которых полиция признает живущими вне черты «без законного основания». Таким образом, администрация опять противопоставила легальный погром уличному, не сознавая, что расправы черни над евреями являются только грубой копией официальных расправ. Нижегородский разбой был последним в погромной хронике 80-х годов (если не считать нескольких мелких случаев в разных местах). На шесть лет «земля успокоилась», и монополия тихого погрома, в форме систематического лишения прав, упрочилась в руках правительства графа Толстого и Победоносцева.
§ 17. Паленская комиссия и усиление бесправия (1883-1889)
Издав «Временные правила» 1882 года как чрезвычайную меру, правительство сознавало, однако, что ему раньше или позже придется поставить еврейский вопрос в обычном законодательном порядке, перед Государственным Советом. Для этой цели надо было подготовить материал более доброкачественный, чем те «труды» игнатьевских губернских комиссий, которые составляли только часть погромной работы уволенного министра. 4 февраля 1883 г. Александр III повелел учредить «Высшую комиссию для пересмотра действующих законов о евреях». Председателем ее состоял в течение нескольких лет бывший министр юстиции граф Пален (отсюда обычное название — «Паленская комиссия»). В состав комиссии входили шесть чиновников различных департаментов министерства внутренних дел и по одному чиновнику от министерств финансов, юстиции, народного просвещения, государственных имуществ и иностранных дел, а также некоторые «сведущие люди». Новому бюрократическому учреждению не был назначен определенный срок для окончания своих работ; ему дали понять, что дело терпит отлагательство. В течение ряда лет Высшая комиссия разбиралась в печальном наследии бывших «губернских комиссий» — ворохах бумаг с проектами решения еврейского вопроса. Она принимала также записки по этому вопросу со стороны и, между прочим, от еврейских общественных деятелей (главным образом через барона Г. Гинцбурга). Только после четырех лет изучения материала комиссия приступила к составлению своего заключения, которое так и не вылилось в форму законопроекта — по причинам, о которых речь будет дальше.
Пока комиссия «пересматривала» прежние законы о евреях, реакционное правительство Дмитрия Толстого энергично работало над созданием новых репрессий вне законодательного порядка, в форме «высочайше утвержденных мнений Комитета Министров». Высшая комиссия в течение ряда лет служила лишь ширмою для прикрытия жестоких экспериментов власти: там высшие сановники предавались размышлениям о еврейском вопросе и придумывали способы его решения в будущем, а тут министры уже решали его на практике в духе крайней юдофобии, которым был заражен и сам царь. Запоздалая коронация Александра III в мае 1883 г., принесшая в традиционном манифесте льготы и облегчения разным слоям населения, ничего не принесла евреям. Царь внимательно прислушивался к голосам тех усердных губернаторов и генерал-губернаторов, которые в своих ежегодных «всеподданнейших отчетах» развивали модную идею о «вредности» еврейства; он часто делал на этих отчетах пометки, имевшие значение приказов. Одесский генерал-губернатор Гурко доносил в 1883 г. о чрезмерном росте числа учеников-евреев в гимназиях и о «вредном влиянии» их на товарищей-христиан, причем предлагал установить ограниченную процентную норму для приема евреев; царь на этом отчете написал: «Я разделяю это убеждение, на это необходимо обратить внимание». Комитет министров «обратил внимание», но не успел он еще изготовить соответствующий проект, как нетерпеливый царь сделал более решительную пометку на губернаторских отчетах следующего года: «Вопрос этот желательно было бы решить окончательно». Тогда и Комитет министров проникся убеждением, «что возрастающий наплыв в учебные заведения нехристианского элемента оказывает самое вредное, в нравственно-религиозном отношении, влияние на христианских детей». Министерство народного просвещения наскоро изготовило проект в духе царской резолюции, что привело вскоре к знаменитой «процентной норме» в школах.
В центре системы репрессий оставались запреты, касающиеся жительства и передвижения, часто равносильные запрещению жить, лишению источников пропитания. В эту область майские «Временные правила» внесли большое разнообразие юридических пыток. Правила запрещали евреям на будущее время «вновь» селиться вне городов, но оставляли на местах жителей, поселившихся до 1882 года. Эти-то деревенские старожилы мозолили глаза юдофобам, мечтавшим о внезапном исчезновении еврейского элемента из русской деревни, — и вот пошли в ход административные меры выживания евреев из деревень. Выше уже говорилось о стараниях властей и конкурентов-христиан выселять евреев, как «порочных членов» сельской общины, силою крестьянских приговоров. Был придуман еще способ вытеснения: деревенского еврея, отлучившегося на некоторое время в город, полиция часто не пускала обратно в деревню, как «вновь поселяющегося». Бывали примеры, что семейства, уезжавшие, по обычаю, из деревни в соседний город на годовые праздники, для участия в синагогальном богослужении, встречали препятствия при возвращении домой, которое истолковывалось как «новое водворение». Был придуман еще такой юридический софизм: евреев, живших в наемных домах, полиция считала себя вправе выселить на том основании, что по истечении срока найма жильцы все равно подлежали бы выселению в силу запрета новых арендных договоров. На основании таких хитроумных толкований закона подлежало выселению в Черниговской и Полтавской губерниях до 10 тысяч евреев, которые в деревнях обыкновенно проживали в наемных домах или в своих, построенных на крестьянской земле. Вопль несчастных был услышан в Петербурге, куда они обратились с жалобою в Сенат. Указом Сената (январь 1884 г.) этот административный разгром был прекращен: выселение было приостановлено после того, как значительное число семейств было уже изгнано и разорено. Законом 1887 года было запрещено евреям переселяться из одной деревни в другую, что прикрепляло их к определенному месту жительства. «Это означало, — говорит современник, — что, если выгорит село, в котором жили евреи, или закроется фабрика,