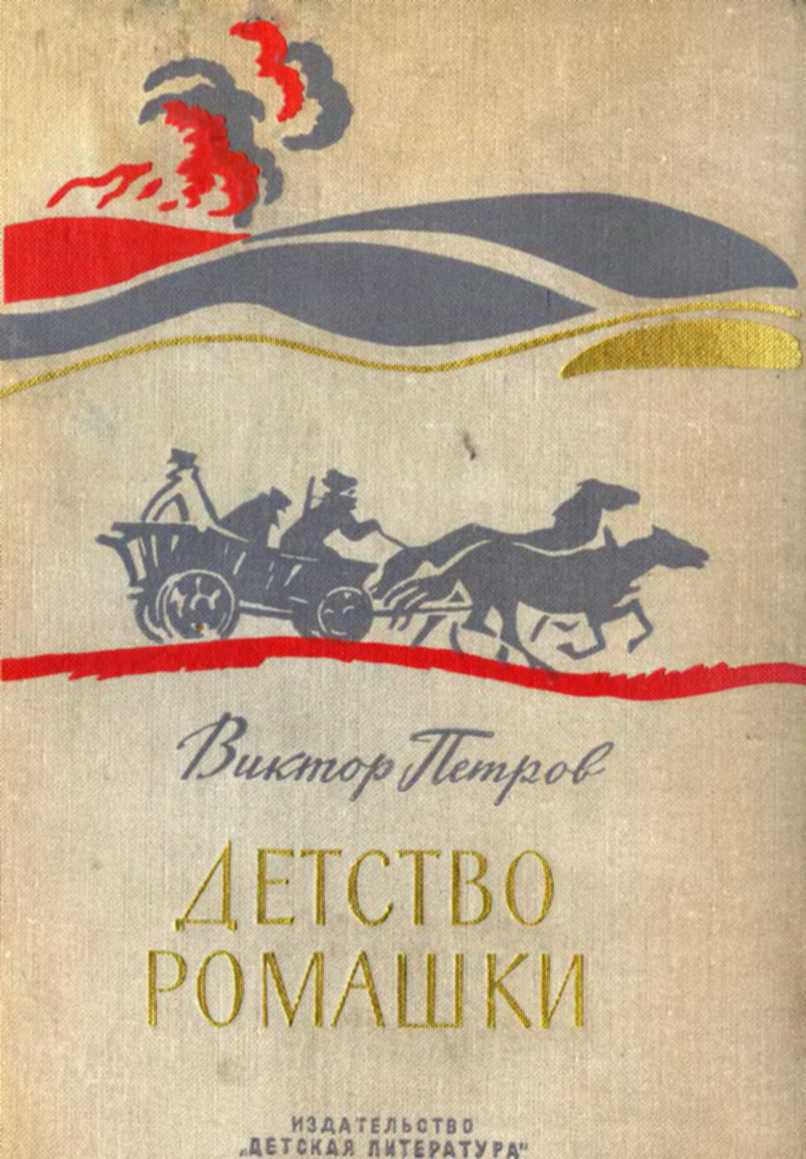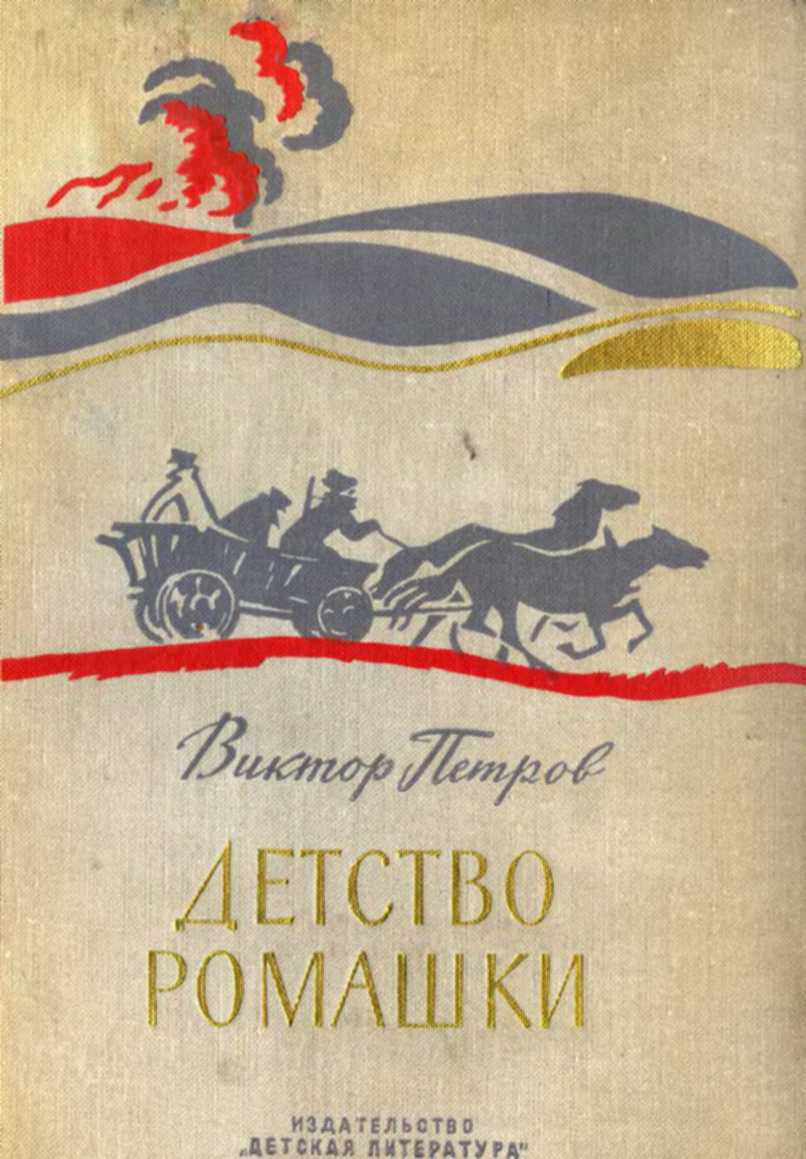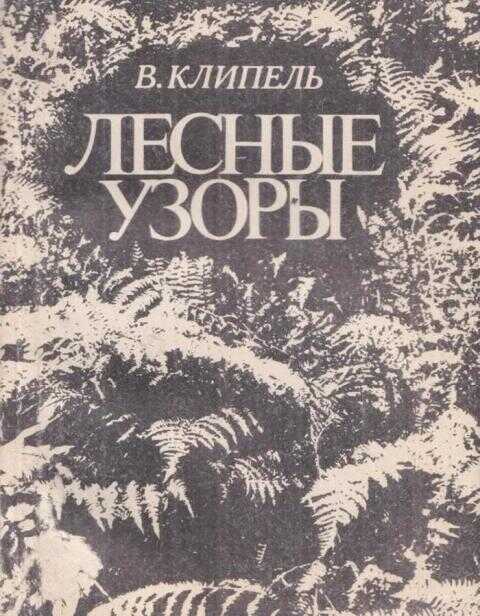это же никакие не ландыши, а… Не веря своим глазам, он нырнул под ветку к самой земле. Под еловыми лапами лежал женьшень. Толстый стебель венчала розетка из пяти пятипальчатых листьев. «У-пи-е!» Это же корень, которому не меньше ста пятидесяти-двухсот лет! Руки у Павла Тимофеевича задрожали, спина покрылась потом. Вот это находка!
Он обалдело смотрел на этот прибитый корень и не знал, что делать. Кричать «панцуй!»? Какая удача! Корень наверняка замер бы, может, на десять, может, на пятнадцать лет, а то и совсем пропал бы для людей. Как хорошо, что его надоумило полезть на эту сопочку, искать.
Несколько крепких затяжек прояснили ему голову. Он посидел, потом вытащил из мешка топор и обрубил мешавшие ветки. Под ними открылась примятая трава, кустики. Рядом с крупным корнем «у-пи-е» лежали два четырехлистных помоложе — «сы-ли-е». Они росли на бугорке мягкой земли, словно на грядочке.
И тут Павла Тимофеевича осенило: «Плантация! Это же плантация корейцев. Вот куда занесли они ее, а я-то где все крутился».
Конечно же, они не такие дураки, чтобы высаживать столь крупный корень там, где шляются охотники, лесорубы. Вот и облюбовали эту сопочку. Как славно, что он их нашел. «Эх, мать честная, вот подфартило…» Корни хоть и сидели в мягкой земле, но повозиться все же пришлось. Пятилистный корень лежал в земле горизонтально. Корень был сильный, и длинные мочки прошивали землю на полметра и больше, расходясь веером. Надо было выкопать его, не оборвав этих нитей, чтобы корень не потерял цены. Чтобы удобнее было работать, Павел Тимофеевич опустился на колени. Сколько он провозился над одним растением, он не знал, — долго, потому что нестерпимо заныла поясница, давило грудь. Зато корень был таков, что окупал всю поездку.
С другими корнями он справился легче, но силы были на исходе. Павел Тимофеевич присел на поваленное дерево. Близился вечер, а он еще не обедал, и есть почему-то не хотелось. Ветер немного стих, и плесы Канихезы оловянно поблескивали среди темной зелени. Пора подниматься и упаковывать корни. Павел Тимофеевич стал отыскивать взглядом кедринку, с которой можно снять кору на лубянку-конверт, и краем глаза вдруг заметил на одном из плесов лодку. Она проплыла по блестящей поверхности и скрылась на излучине.
«Лодка!» — вот что успел подумать Павел Тимофеевич. Времени, чтобы разглядеть ее толком, не осталось. Лишь одно дошло до него с полной ясностью, что это его лодка, на которой те двое спускаются вниз, и надо их перехватить. Все, что он пережил за последние дни, все неудачи возникли перед ним в этот миг: обсчет при дележе, пропажа лодки, продуктов, вероломство Алексея и даже ночь, в которую он так боялся за свое сердце. Гнев захлестнул его, как огонь захлестывает по весне сухую траву.
Нет! Прежде надо упаковать корни. А тем временем воры проскользнут мимо? Ни за что! Подлость должна быть наказана. Он еще не решил, что будет делать, когда увидит их на своей лодке. Ясно было одно: он должен успеть к табору раньше их, обязан укараулить, чтобы они не прошмыгнули мимо.
Руки Павла Тимофеевича тряслись, когда он пригоршнями сыпал в мешок землю, укладывал корни: на лубянку времени не оставалось. Через минуту он уже скатывался по косогору. Усталые ноги подкашивались и плохо ему повиновались. Он спотыкался о валежины не в силах перешагнуть через них, задыхался, сердце билось неровно, гулко. «Скорей, скорей!..» — стучало в висках, и он напрягал все силы. Ему казалось, что он бежит, так много старания он прилагал, а на самом деле неловко ковылял на непослушных одеревенелых ногах.
Он был уже в березняке, от которого рукой подать до табора, торопливо взвел курок ружья и тут споткнулся. Упал он сильно, со всего размаху.
Мысленно он стремился еще вперед и, одержимый справедливым гневом, жаждал встречи со своими обидчиками. Тело же бессильно никло к земле. Ему показалось, что он идет в атаку. Точно так же гулко стучало сердце всякий раз, как подходила пора подниматься из окопа. Только сейчас перед ним была подлость, и ее так же не обойти, как тот окоп, который всегда стоял на его пути в атаках.
Он торопился, а ноги, руки отказывали, и сердце то забьется, то затихнет и разрастется так, что тесно ему в груди. Он не замечал, что жадно хватает посинелыми губами воздух, а надышаться не может, что пальцы его шарят по траве, и таковы, будто перед этим он перебирал зрелую голубику и не успел их отмыть. Веселые, шумящие листвой березы — он увидел их мельком, поворачиваясь на спину, лицом к небу, — стали опрокидываться на него, забивая ему дыхание, и он испугался, что на этот раз возвращения может и не быть. Но что он мог поделать? В такую минуту плохо в тайге одинокому. «Плохо», — подумал он. Оставалась маленькая надежда — вдруг все-таки кто есть поблизости. Нащупав шейку приклада, он из последних сил нажал на курок. Как и в давних атаках, рвануло что-то красно-черное, слепящее, рвануло со звоном, и он стал падать, падать…
Корневщики ночевали у залома. Поднялись утром в шесть. Завтракали молча. Федор Михайлович угрюмо сводил к переносью черные брови, глядел в огонь, о чем-то думал. Среди ельника, пихтарника было еще сумрачно и тихо, но утро занималось ясное, и легкий ветерок уже шевелил листву тальников на другой стороне реки.
Когда корневщики пошли перетаскивать лодку, Федор Михайлович остался у костра, словно его это не касалось. В тишине дробно рассыпались татакающие звуки — Алексей пробовал мотор. К костру подошел Шмаков:
— Ну что, грузимся?
— Давайте, грузитесь! — ответил Федор Михайлович, но сам не сдвинулся с места.
Шмаков молча пожал плечами, не понимая, какая муха укусила «старшинку», и подхватил на плечо свой мешок. Подошли остальные, разобрали свои вещи, табор опустел. Костер едва дымил, вокруг утоптанные травы, примятая подстилка. С лодки донесся крик Алексея:
— Ну что там, скоро?
— Пора отчаливать, — сказал Шмаков. — Ждут.
— Валите, — отозвался Федор Михайлович. — Я не поеду.
— Что так?
— А так… — и вдруг, будто взорвало его изнутри;. Федор Михайлович раскричался: — Да с какими глазами я появлюсь к его старухе, случись что с ним? Шли ведь компанией! Вам, может, и все равно, а я людей повел!
— Так чего волноваться, — примирительно сказал Шмаков. — Надо было сразу сказать, давно бы смотались за ним на лодке. Я сейчас Алексею скажу. Один момент!
— Не надо! — остановил его Федор Михайлович. — Пусть катится ко всем чертям вместе со своей лодкой! — и заговорил более спокойно: — Поезжайте и вы.