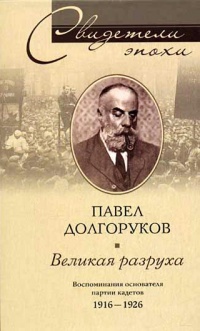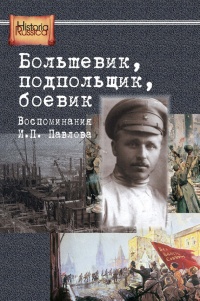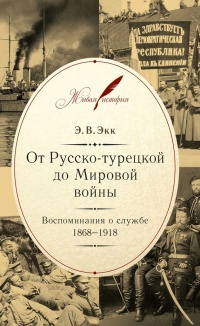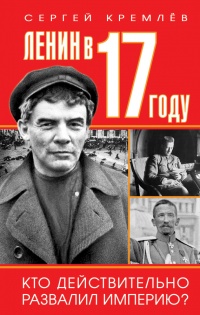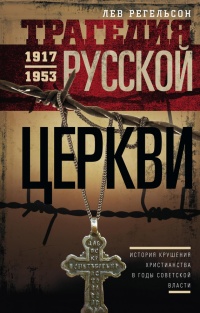Вторая эмиграция
Вторая эмиграция распадается на три периода:
Первый период (1908–1911 гг.) был годами, когда в России царила самая бешеная реакция. Царское правительство жестоко расправлялось с революционерами. Тюрьмы были переполнены, в них царил самый каторжный режим, происходили постоянные избиения, смертные приговоры следовали один за другим. Нелегальные организации вынуждены были уйти в глубокое подполье. Это плохо удавалось. За время революции состав партии стал иным: партия пополнилась кадрами, не знавшими дореволюционного подполья и не привыкшими к конспирации. С другой стороны, царское правительство не жалело денег на организацию провокатуры. Вся система провокатуры была чрезвычайно продумана, разветвлена, окружала центральные органы партии. Информация у правительства была образцовая.
Параллельно с этим систематически преследовалась деятельность всяких легальных обществ, профессиональных союзов, печати. Правительство всеми силами стремилось отнять у рабочих масс завоеванные ими за годы революции «права», права собираться, обсуждать интересующие их вопросы, организовываться. Но вернуть старые времена было невозможно, революция для масс не прошла бесследно, и рабочая самодеятельность прорывалась вновь и вновь через каждую щель.
Эти годы были годами величайшего идейного развала в среде социал-демократии. Стали делаться попытки пересмотра самых основ марксизма, возникли философские течения, пытавшиеся пошатнуть материалистическое мировоззрение, на котором зиждется весь марксизм. Действительность была мрачна. И вот стали делаться попытки найти выход в измышлении какой-то новой утонченной религии, философски обосновать ее. Во главе новой философской школы, открывавшей двери всякому богоискательству, богостроительству, стоял Богданов, к нему примыкали Луначарский, Базаров и др. Маркс пришел к марксизму через философию, через борьбу с идеализмом. Плеханов в свое время уделил вопросу обоснования материалистического мировоззрения громадное внимание. Ленин изучал их работы, усиленно занимался философией еще в ссылке. Он не мог не учесть значения философской ревизии марксизма, ее удельный вес в годы реакции.
И Ленин со всей резкостью выступал против Богданова и его школы.
Богданов был противником не только на философском фронте. Он группировал около себя отзовистов и ультиматистов. Отзовисты говорили, что Государственная дума стала настолько реакционна, что надо отозвать социал-демократическую фракцию из Думы; ультиматисты считали, что надо предъявить ей ультиматум, чтобы она с думской трибуны выступала так, чтобы ее вышибли из Думы. По существу дела разницы между отзовистами и ультиматистами не было… К ультиматистам принадлежали Алексинский, Марат и другие. Отзовисты и ультиматисты были также против участия большевиков в профессиональных союзах и легальных обществах. Нельзя-де идти на компромиссы. Большевики-де должны быть твердокаменными, несгибаемыми. Ленин считал такую точку зрения ошибочной. Она вела к отстранению от всякой практической работы, от масс, от организации их на живом деле. Большевики умели использовать в период до революции 1905 г. каждую легальную возможность, умели в тяжелейших условиях пробиваться вперед и вести за собой массы. От борьбы за кипяток, за вентиляцию вели они шаг за шагом массы к всенародному вооруженному восстанию. Умение приспосабливаться к самой трудной обстановке и, приспособляясь, сохранять принципиальную выдержку, не сдавать революционных позиций – таковы были традиции ленинизма. Отзовисты рвали с большевистскими традициями. Борьба с отзовизмом была борьбой за испытанную большевистскую, ленинскую тактику.
И наконец, эти годы, 1908–1911, были годами острой борьбы за партию, за ее нелегальную организацию.
Вполне естественно, что в период реакции признаки упаднических настроений стали прежде всего сказываться среди меньшевиков-практиков, и раньше всегда склонных плыть по течению, склонных урезывать революционные лозунги, связанных тесными узами с либеральной буржуазией. Эти упадочные настроения выразились чрезвычайно ярко в стремлении очень широких слоев меньшевиков ликвидировать партию. Ликвидаторы уверяли, что нелегальная партия ведет лишь к провалам, суживает размах рабочего движения. А на деле ликвидация нелегальной партии означала бы отказ от самостоятельной политики пролетариата, снижение революционного настроения пролетарской борьбы, ослабление организации и единства действий пролетариата. Ликвидация партии означала отказ от учения Маркса, от всех его установок.
Конечно, такие меньшевики, как Плеханов, так много сделавший в свое время для пропаганды марксизма, для борьбы с оппортунизмом, не могли не видеть всей реакционности ликвидаторских настроений, и, когда проповедь ликвидации партии стала перерастать в проповедь ликвидации самых основ марксизма, он всячески стал от них отгораживаться и образовал свою группу – группу меньшевиков-партийцев.
(В рукописи далее следует: «Товарищам-практикам, мало интересовавшимся философией, было не ясно, чего это так горячится Ленин, чего это он бешено так ругается, из-за чего рвет с недавними соратниками – Богдановым и К, чего ради блокируется он с Плехановым, на чем свет ругавшим большевиков, писавшим, что не нужно было в декабре i 905 г. браться за оружие. Шла борьба за марксизм, за его основы». – Примеч. ред.)