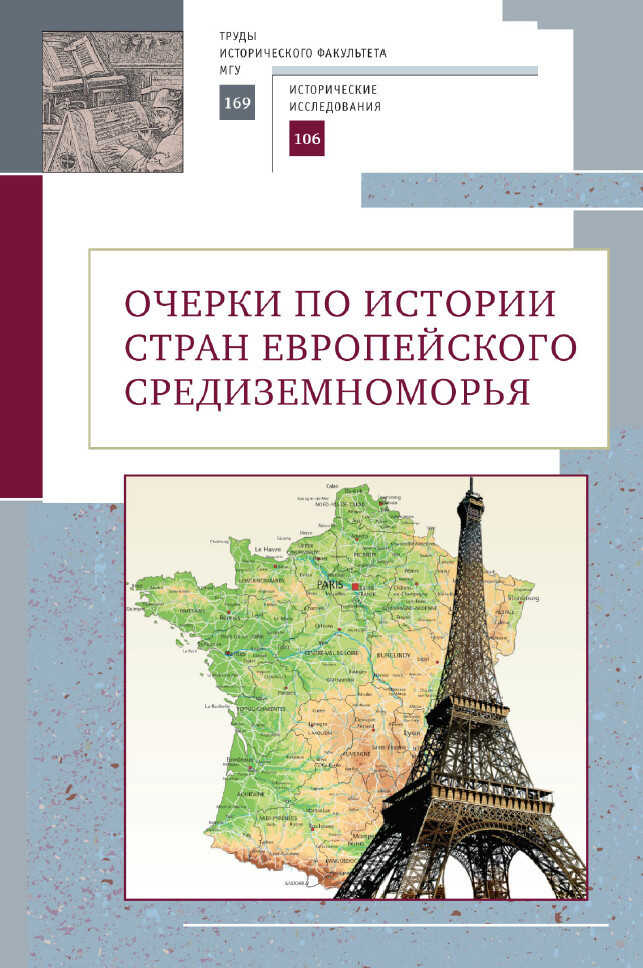в завтрашнем дне, страх за родных, отступавших с полей сражения и «забытых» своими командирами. По словам Ж.-П. Азема, это был «атавистический страх бесчинств немецкой солдатни», сохранившийся еще со времени оккупации северо-восточной части Франции в 1914–1918 г.г. и «обновленный официальной пропагандой, которая изображала немецких солдат как варварские орды»[423]. В своей статье «Армия в шоке и беспорядочное бегство» (2000 г.) историк приводит случаи индивидуального и массового насилия нацистов над местным населением, ставшие известными летом 1940 г.: убийство всей прислуги французского поэта Сен-Поль Ру и изнасилование его дочери; истязания и казнь 45 гражданских лиц в Куррьере, более 70 человек — в Уани; 48 пленников немцы «скосили» из пулемета около города Бург-ан-Бресс и 120 сенегальских стрелков расстреляли в окрестностях Шартра; около тысячи из них погибли в пригороде Лиона[424]. В результате, чтобы спровоцировать новую волну миграции, хватало только слухов о зверствах нацистов, помноженных на воспоминания об оскорблениях, нанесенных населению в Первую мировую войну, о незаконных поборах, бесчинствах врага, принудительном вывозе трудоспособных молодых людей в Германию, нехватке продовольствия. Страх вызывал и сам Третий рейх, чья политика в отношении граждан оккупированных стран и карательный аппарат пока что непосредственно не затронули французов, но вызывали у них по доходившим известиям естественное отторжение.
Р. Ремон, семья которого пережила это массовое бегство, пишет «Как можно было оставаться, когда не было ни власти, ни врачей, ни торговцев, ни булочников … Отъезды влекли за собой новые отъезды; движение стало неудержимо заразительным»[425]. В этой беспрецедентной внутренней миграции участвовало от 1/4 до 1/5 французского населения. Смятение «этих жалких толп, этих разъединенных семей» смерти, мародерство, голод оставили неизгладимый след в коллективной памяти, такой же глубокий, как военное поражение французских армий. Эти две, параллельно разыгравшиеся драмы, по своей сути — настоящие трагедии, «устранили традиционное различие между передовым краем и тылом, гражданскими и военными, оказались определяющими [для жизни Франции — Н. Н.] факторами»[426]. Неспособность государственной власти справиться с военным и социальным кризисом, тяжелейшие страдания безвинных людей, всеобщее ощущение подавленности и быстрого развала страны — этот «разрыв текстуры социальной ткани французского общества»[427] — требовали у политического класса ответа на непростой вопрос: не пора ли на любых условиях остановить сражение? Положительно ответил на него последний глава правительства Третьей республики маршал Петен, избранный председателем Совета министров 16 июня 1940 г. и призвавший немедленно — «во имя нации» — прекратить войну. И в качестве главного морального оправдания подобного решения он использовал «исход», мучения французов в возникшем и непрекращающемся хаосе. Именно поэтому и приход к власти Петена, и его переговоры о перемирии с нацистским руководством, и его первые правительственные шаги, очевидно недемократического характера, в первую очередь «несовместимая с законами 1875 г. конституционная реформа, устанавливающая в пользу Маршала абсолютную диктатуру»[428], нашли поддержку у значительной части как французской политической элиты, так и простых обывателей, которые, по известному выражению военного историка Ж.-Л. Кремье-Брийяка, переживали «почти биологическую необходимость в восстановлении и выходе из создавшейся ситуации»[429]. «Кажется, — отмечает Ж.-П. Азема, — что внушительное большинство французов почувствовало облегчение, увидев в Филиппе Петене вершителя судеб Франции, побежденной и оккупированной». Он представлялся им одновременно защитником от жестокого победителя и человеком, способным разрешить «очень серьезный кризис национальной идентичности, в который погрузились глубоко униженные французы»[430].
* * *
«Беспрецедентный травматизм, испытанный французской нацией, оставил раны и глубокие шрамы в коллективной памяти и в последующей истории [Франции — Н. Н.]», — справедливо утверждает в статье «Травма 1940 г.» американский историк С. Хоффман[431]. Этот феномен ставит перед исследователями несколько вопросов. Первый заключается в том, можно ли считать травматизм от военного поражения и «исхода», так называемый «травматизм разгрома», только эпизодом, пусть и самым глубоким и тяжело воспринимаемым в «целой серии травматизмов», переживаемых Францией в 30–40-е г.г., например, от экономического кризиса, «мюнхенского сговора», от «размежевания общества на вишистов — коллаборационистов и аттантистов — сопротивленцев», от условий Освобождения страны в 1944 г., которые Хоффман называет «практически гражданской войной?» Американский ученый полагает, что в истории Франции с этой точки зрения выделяется компактный «временной блок со всеми его конвульсиями» — 1934–1946 гг., а в нем особое, очень важное место занимают события эпохи военного поражения, повлиявшие на коллективную память своим драматическим исходом[432].
Другой вопрос касается причин довольно «скромного» интереса французских историков к сюжету «разгрома 1940 г.». Действительно первые 50 лет после поражения Франции его история изучалась главным образом по воспоминаниям и свидетельствам очевидцев — Ш. де Голля[433] М. Блока[434] и Л. Блюма[435]. Только в 1990 г. появился первый обобщающий двухтомный труд известного историка, участника движения Сопротивления Ж.-Л. Кремье — Брийяка «Французы 1940-го года», в котором на основе многочисленных документов излагались интересные факты и выводы по истории Франции, связанной с ее военным крахом и последующей за ним сменой политического курса. К этому моменту уже существовала обширная историография политической истории «поздней» Третьей республики, правительства Виши и движения Сопротивления но не военного поражения 1940 г.
Объяснение этому несоответствию дает анализ восприятия французами событий тех лет. Изучение их коллективной памяти позволило С. Хоффману выделить две ее главные характеристики: чувство сопричастности к очень серьезной катастрофе, вторжения в обыденную жизнь людей «чего-то почти астрального по скорости и необычности происходящего»; а также чувство унижения и стыда за пережитое[436] Об этом же рассуждает в своей книге «Последний век. 1918–2002» ведущий французский историк Р. Ремон. Исследователи Ж.-П. Азема М. Ферро, С. Бернстейн, П. Мильза и другие также в многочисленных работах рассматривают особенности коллективной памяти французов переживших поражение, «исход» и оккупацию страны.
С. Хоффман сравнивает коллективную память населения Третьей республики о Первой и Второй мировых войнах и делает интересный вывод: в коллективной памяти первой войны доминировало «чувство долгого и острого страдания». Для людей 1940 г. события лета были связаны с «ощущением неожиданного и грубого удара по голове и в сердце». Этот удар, ассоциировавшийся у них с катастрофой, хаосом, имел следствием «двойное передвижение» людей — физическое и географическое (массовое бегство, концлагеря, для некоторых — вынужденная эмиграция, как например, для де Голля и его соратников, оказавшихся в Лондоне), а также ментальное, психологическое (переход от привычного индивидуализма к коллективизму военного времени: люди, вырванные из привычной среды, ощущали тягу к принадлежности к какой-то группе, будь то трагическая атмосфера концлагеря или партизанское сообщество участников движения Сопротивления)[437].
Второй характеристикой коллективной памяти 1940 г. обычно называют унижение или даже стыд. Это часто встречающаяся психологическая ситуация — довольно распространенная в истории различных народов — требует от них поиска утешения и оправдания.