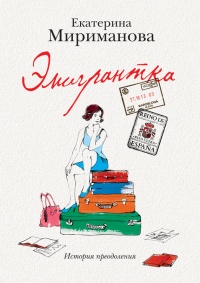Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти. Разве можно такого человека жалеть? У него в руках была гениальность. Он был сеятелем великого.
Я видела много гениальных людей. И знаете, у них есть одна отличительная черта. Это спокойствие, величие и простота. Я думала сначала, что все такие, как Борис Леонидович, как Галактион Табидзе, как Гогла Леонидзе. Мне казалось — как можно мучаться, создавая что-то?
Знаете историю, как один поэт подал тетрадку своих стихов Пушкину и сказал: „Александр Сергеевич, это мои стихи. Я так мучался, когда их писал“. Пушкин повернулся к нему и ответил: „Так вы не пишите!“
Находиться рядом с Борисом Леонидовичем было большим удовольствием. Это как когда вы смотрите на великую картину и получаете удовольствие. Это было наслаждение. Ты даже не понимал, в каком времени находишься. Не задумывался, правду он говорит или нет. Ты просто соглашался с ним и видел законы жизни.
Но для меня это не было чем-то из серии „Я была с Пастернаком!“, нет. Я же жила с таким человеком, как папа. Он сам был таким.
Сам роман „Доктор Живаго“ Пастернак нам не давал. Мы прочли его уже потом, через несколько лет. Там есть какие-то вопросы очень интересные, но чтобы сказать, что это моя настольная книга — не могу.
Пастернак ведь приехал в Грузию спасаться, когда началась травля из-за Нобелевской премии. Все свои тяжелые моменты, когда его готовы были растерзать, он проводил в Грузии в семье поэта Тициана Табидзе. И бывал у нас в доме. Он очень уважал и любил маму и папу. Это были какие-то другие отношения. Он считал часы, проведенные здесь, временем в ином пространстве.
Мне было 18 лет, и я присутствовала на этих вечерах. Я как-то преклонила перед ним колени и произнесла тост. И что-то возникло. У нас началась переписка. Он присылал мне все свои издания с необыкновенными надписями. Это переходило обыкновенные границы. Но я была почти ребенком, и он, уважая папу, не хотел перешагнуть через какой-то рубеж. Но я получала поразительные письма, на которые конечно же отвечала. Когда перед смертью ему было очень плохо, я ему послала бутылку красного вина для причащения и серебряную пиалу. Я не была в Переделкино, но думаю, что ему это передали.
Из-за этой травли у Пастернака и случился рак. Но дряхлости у него не было. Он стариком никогда не был. Как и мой отец. Даже в возрасте 84 лет Ладо не был стариком, у него сохранились юношеские порывы. И Борис Леонидович стариком не был, он был уязвим и на здоровье его это отразилось. „Вот что они со мной сделали“ — такого он никогда не говорил. Он улыбался, говоря про травлю. Трясучки не было. Мог сказать разве что: „Ну что же это такое!“
Поздравили ли его мы с Нобелевской премией? Его всегда поздравляли, всегда чтили. Да и что была Нобелевская премия? Квинтом существования она не была. Папа сказал ему: „Борис, не стоит огорчаться по этому поводу. Ты и без Нобелевской премии велик“. Вот если бы Пушкину дали Нобелевскую премию, что бы изменилось? Я, конечно, не сравниваю — Пушкин и Пастернак разные величины. Но просто были другие понятия.
Пастернак вообще был поразительным явлением. Среднего роста, но очень мужественный. Эти поразительные скулы, яркое мужское начало, горящие глаза. Когда мы встречались, я попадала в водоворот не то что чувств земных, а в какое-то другое пространство.
Он бывал и нежен. Но это не было какой-то сладкой и боязливой нежностью, нет. В нем всегда горел огонь, происходило какое-то варево. Он тоже был дистанционным. Попасть в его мир было счастьем. Но наши отношения не переходили границу земных. Все происходило в сфере волшебности, когда ты теряешь контроль, так как соприкасаешься с явлениями выше себя.