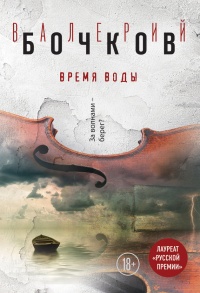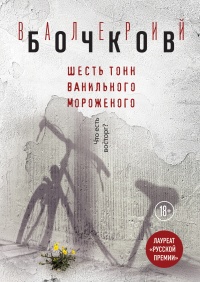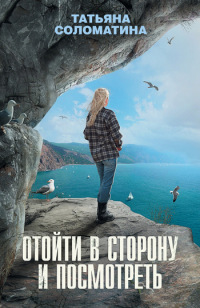Ферзевый гамбит
1
– Я пережила двух мужей, три автомобильные катастрофы, перестройку в Винницкой области, эмиграцию и кесарево сечение под местным наркозом, а тут приходит эта рыжая… – Софа Кац запнулась, подыскивая слово пообидней, – рыжая шикса и начинает учить меня жить! Нет, вы только поглядите на нее – зубы вставила и уже решила, что она граф Монте-Кристо.
Митрофанова в ответ фыркнула и только повела круглым плечом, смерив подругу презрительным взглядом.
Кац была старухой мелкого формата, таких обычно зовут пигалицами, c черными, как смородины, глазами и неожиданно удлинившимся за последние годы носом.
– Или в тюрьму захотела, – не унималась Кац, – к лесбиянкам черножопым?! Ох, вот кто обрадуется!
Митрофанова, осанистая, вызывающе рыжая с румяными крепкими щеками и красивой круглой грудью, надо сказать, действительно сохранилась неплохо и была, по ее же словам, в самом соку (говоря это, она обычно чмокала красными губами).
Они с Кац были одногодками, однако Митрофанова, отмечавшая свое пятидесятидевятилетие уже несколько лет подряд (четыре года, если точнее), похоже, и сама уже верила, что притормозила это чертово время. По крайней мере, для себя лично.
– Ну и дура же ты, Софа, – отозвалась Митрофанова, лениво пиная желтые и красные листья, – круглая дура, прости меня господи.
Они шли парком. Парк был небольшой, чахлый, зажатый между ржавой решеткой автостоянки и серой стеной гигантского мебельного склада. Накануне бушевал ветер, трепал и ломал сучья, гнал страшные тучи, похожие на черные горы. Всю ночь бухал гром, дождь лил и лил, буря напоминала катаклизм библейского масштаба, и, казалось, конца ей не будет.
Утро же выдалось неожиданно синим. Деревья обнажились, вокруг стояла прозрачная тишь, с едва уловимой ноябрьской горечью в холодном, уже почти зимнем, воздухе.
– Так и сдохнешь в этой дыре… дура, – Митрофанова продолжила, разглядывая свои ногти. – И при чем тут тюрьма? Я ж тебе говорю, риска – ноль. Почти ноль.
Кац тоже пнула листья и зло отмахнулась.
Митрофанова остановилась, прищурилась:
– Не-е, ты не еврейка, нет. Евреи – они сметливые! Сообразительные! У них мозг острый. Ты, наверное, бурятка из Улан-Уде какого-нибудь, или из Сыктывкара… или откуда вы там, буряты?
Кац вспыхнула: она терпеть не могла «всего этого митрофановского антисемитизма» – сколько раз ей, засранке, можно говорить, вот уж русская тупость, хоть кол на голове теши, тьфу!
– Я – еврейка! И я шустрая! Знаешь, какая шустрая? – Кац быстро-быстро помахала рукой перед лицом Митрофановой, изображая шустрость. Та отстранилась, брезгливо морщась. – Сама ты бурятка! – уже крикнула Кац, чуть подпрыгнув.
Митрофанова, остановившись, гордо подняла голову и сверху вниз холодно посмотрела на подругу:
– Я не бурятка. Я дочь генерала! И потом, это вопрос справедливости, Гурам – бандит, и деньги эти – бандитские. Так что все правильно и по совести.
2
Они снова встретились вечером того же дня у Митрофановой, в тесной квартире, похожей на битый фибровый чемодан провинциального командировочного: желтые разводы, отсыревшие углы, наклеенные лица из журналов. Квартира крошечная: открываешь дверь и тут же утыкаешься в стену, в одном углу – кровать, в другом – плита на две конфорки. Оба окна выходят в колодец двора, воняет вареной рыбой, небо можно увидеть, лишь высунувшись по пояс. Зато отличный вид в душевую Фогеля напротив (если окна не успели запотеть), да кому интересен голый Фогель?
Посередине комнаты – круглый стол, траурная тяжелая скатерть, черная, с золотыми лопухами и хищными цветами неизвестной породы. Над столом – линялый оранжевый абажур, с кистями и пятнами, таинственным образом оказавшийся по эту сторону Атлантики.
Свет плотный и мутный, накурено. На скатерти – бумага с каким-то планом, нарисован он карандашом, коряво, но старательно – от усердия в некоторых местах грифель проткнул бумагу. В центре плана – квадрат, помеченный жирным крестом. Там уже дыра, через которую видна скатерть. Но карандаш Митрофановой неумолимо продолжал елозить именно там.
Митрофанова мрачна, рыжая голова ее всклокочена, как у сердитого Зевса: