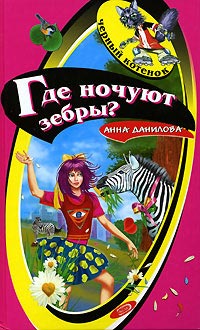дубленку, то придется убрать ее в чемодан, и тогда будет перевес, за него нужно будет заплатить, а денег нет, все, что оставалось, поменяли на валюту, и из-за этого они могут опоздать на рейс. К тому же все чемоданы набиты под завязку, ничего уже в них не поместится.
Но теперь Тамара все-таки решилась если не снять, то хотя бы распахнуть дубленку. Она привстала, расстегнула пуговицы и опустилась обратно в кресло. Что-то твердое врезалось в бок. Тамара удивленно поднялась еще раз, посмотрела, не валяется ли что-нибудь в кресле, но ничего не обнаружила. Она запустила руку в карман и ахнула. Там лежали ложки.
Установка
– Ну что, будем за уши тянуть?
Это был уже третий его день рождения кряду, и Олежка лоснился от удовольствия как блин в масле. Сначала отмечали в школе – конфетами и тортом, потом домой приходили ребята из класса, а теперь праздновали со взрослыми.
По обеим сторонам стола, вернее, двух столов, составленных вместе (второй одолжили у Сухаревых), на Олежку смотрели бабушка, дедушка, весь в медалях, которые он надевал по праздникам, родственники, друзья родителей, и все желали счастья, здоровья, и все любили его, Олежку. Нанесли подарков, наговорили тостов, и в очередной раз без ушей, видимо, было не обойтись.
– Да я тихонечко, – улыбнулась мама, – а то расти не будешь.
Мама, в фартуке поверх нарядного черного свитера с блестками, с трудом протиснулась между чешской стенкой и стульями, на которых расселись гости, встала позади Олежки, сидящего во главе стола, и легонько оттопырила ему уши – раз, два, три, – а потом чмокнула в щеку и тут же принялась оттирать с нее розовую помаду.
– За нашего мальчика! – поднял бокал дедушка.
– За Олежку! – отозвались все и потянули свои бокалы в сторону именинника.
Олежка, в праздничной белой рубашке и бабочке-галстуке, привстал, торжественно чокнулся с каждым своим стаканом с пепси-колой и завалился обратно в кресло.
Несмотря на подушку, которую подложили ему под попу, Олежка едва возвышался над тарелкой, собственно, поэтому мама с таким усердием и тянула его за уши. После того как уехала Ася Авербах, он был в классе самым низким, а в лифте не мог даже дотянуться до кнопки их девятого этажа.
Олежка родился здоровенький, чистенький, ладный, правда маленький. А в три месяца его обсыпало: ручки, ножки, спину, но больше всего лицо – щеки вспыхнули розовым, а глаза будто подвели толстым красным ободком. «Обильная папуло-везикулезная сыпь на обширных участках кожного покрова», – написала в медицинской карте участковая Марина Юрьевна.
Поначалу спасались распашонками с зашитыми рукавами, чтобы ручки не лезли куда не надо, потом варежками, а когда Олежка подрос и научился сдирать и то и другое, кошмар стал постоянным. Сыпь пузырилась, мокла, и Олежка расчесывал себя до крови, так что на ночь маме приходилось привязывать его к деревянным бортикам кровати, будто распинать. Она скручивала бинт, подкладывала в него небольшой валик из ваты, так меньше натирало, и подвязывала Олежке ручки, чтобы они не дотягивались до лица, и все вопрошала, за что на долю ребенка выпали такие страдания.
Когда волдыри лопались, мама мазала Олежку всеми цветами радуги: синькой, зеленкой, фукорциново-красным, а еще нафталаном, зловонным кремом, сделанным из нефти.
В институте аллергологии Олежке прописали диету, и питаться ему теперь можно было только святым духом: ничего красного, ничего оранжевого, все только вымоченное, пропаренное и обезжиренное. Мама питалась вместе с Олежкой, из солидарности, – голой гречкой и вареной курицей, не могла она есть разносолы, когда так страдает ее мальчик. Папа был человек занятой, важный, с работы приходил голодный, и ему мама накрывала отдельно.
А если, бывало, Олежкин острый глаз отыскивал в глубине шкафа какую-то плохо припрятанную коробку конфет, мандарин или остатки пирога, который мама испекла папе, Олежка поднимал на маму серые, полные тоски глаза, обведенные красной сыпью, и просил:
– Мамочка, ты мне дай шоколадку, а потом привяжи.
Мама сглатывала слезы, отрезала сыну крошечный кусочек или дольку и шла за бинтом.
Первые годы Олежкиной жизни прошли в бегах по врачам – профессорам, академикам, гомеопатам, – которые отсчитывали микроскопические шарики, толкли порошки, прописывали таблетки, но ничего не помогало. Когда Олежке исполнилось три, мама отвезла его в деревню к бабушке, под Калинин, и там повела к бабе Шуре, иссохшейся, беззубой старушке-целительнице с теплыми руками. Положив Олежку на высокую деревенскую кровать, Баба Шура водила по нему яйцом, выкатывала порчу. Это было очень щекотно, и Олежка силился не рассмеяться, чтобы не расстроить маму.
– По головушке светлой, по спинке прямой, по животику белому, по ножкам резвым яичко катается, сглаз да хворь на него мотается, – бормотала баба Шура, окая на местный лад. – Соберется вся немочь до крупицы, откуда пришло, туда возвратится. Кто заставил мучиться, пусть сам жгутом скрутится.
Папе об этом визите говорить не стали – у него же райком.
К четырем годам сыпь стала понемногу утихать, ножки-ручки из красных порозовели, сошла обводка с глаз (мама считала, что это подействовало лечение бабы Шуры), только ладошки так и остались шершавыми, в трещинах, а щечки алыми. Диета Олежкина стала более щадящей, и он пошел в сад. Правда, по четвергам, когда был рыбный день, мама давала ему с собой овощной суп: на рыбу у него все еще была сыпь.
В саду, однако, он стал сильно болеть: на смену аллергии пришли бронхиты, аденоиды и уши. Олежка хватал любой вирус, любой сквозняк, цеплял любую маломальскую лужу, в которой только можно промочить ноги, и сразу заболевал. Температура поднималась под сорок и не сбивалась ничем – ни аспирином, ни бисептолом, который мама толкла в чайной ложке, а потом смешивала с сахаром, ни холодными компрессами на лоб, ни растираниями спиртом.
– Сглазили моего мальчика, – вздыхала мама, когда Марина Юрьевна переворачивала пылающего жаром Олежку на спину, чтобы послушать.
– Мама, что вы такое говорите, – сердилась строгая врач, – вы образованный человек, в столице живете. Это не сглаз, а бактериальная инфекция.
– Ну да, ну да, – неохотно соглашалась мама. – Бедный ребенок.
Только Олежка был вовсе не бедный, наоборот, он был абсолютно счастливый. Вместо ненавистного детского сада он оставался дома с мамой – в уютной фланелевой пижаме, жарких шерстяных носках, завернутый в одеяло и накрытый красным пледом. Если его знобило, мама ложилась рядом в кровать и лежала с ним в обнимку, пока Олежка не засыпал. Мама была полная, мягкая и теплая, казалось, обволакивала его со всех сторон,