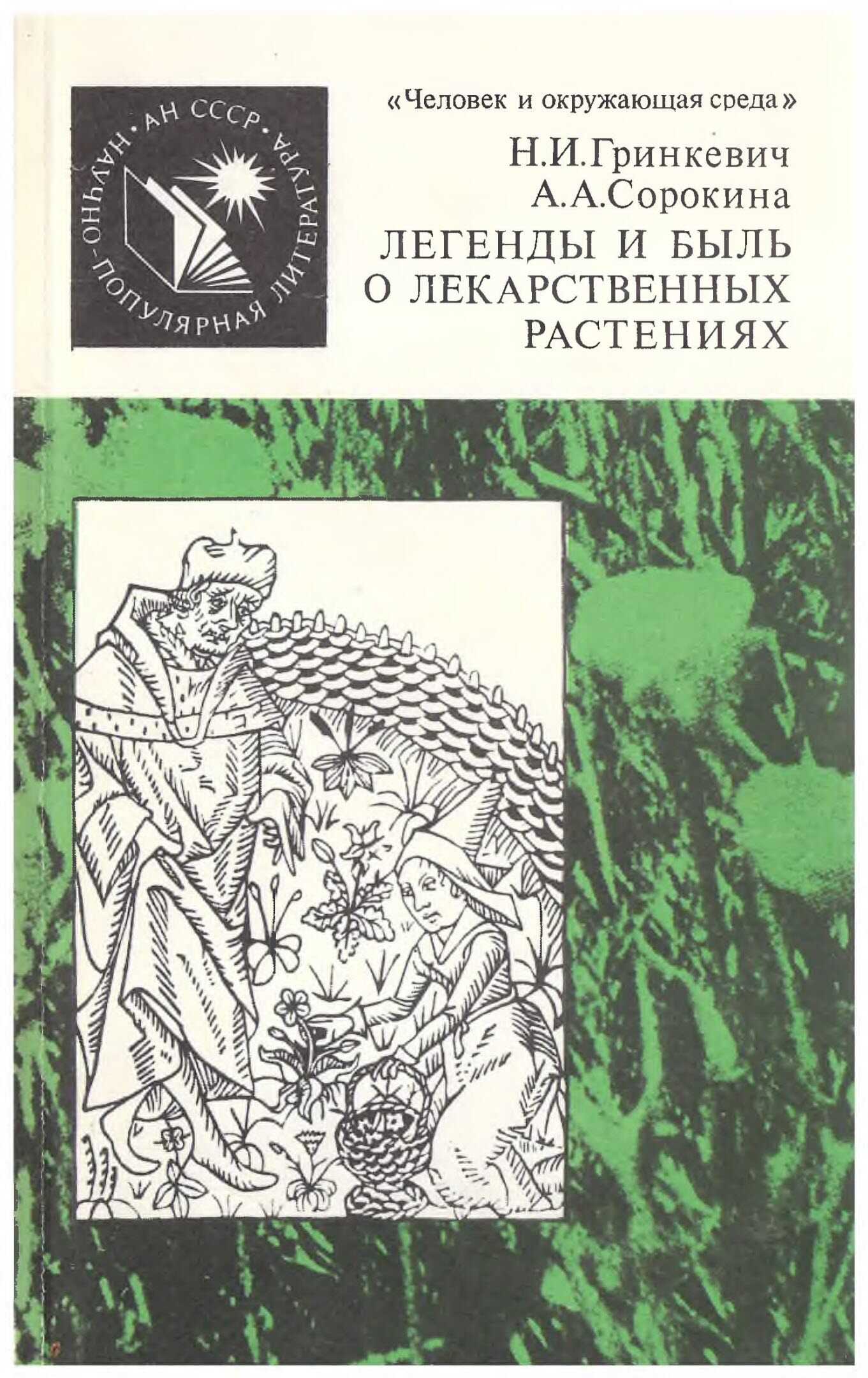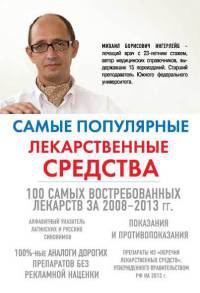В. Птицыным [1890].
Сведения о лекарственных растениях, коллекцию сырья, использовавшегося в практике тибетской медицины в Забайкалье, собрал А. М. Позднеев, работая с ламами Гусиноозерского дацана над переводом на русский язык учебника тибетской медицины "Чжуд-ши" [Позднеев, 1908]. Несколько раньше в окрестностях Агинского дацана Г. Стуков [1905] собрал гербарий растений, использовавшихся в практике агинских лам.
Определения И. Реманна [Rehmann, 1811], В. Птицына [1890], А. М. Позднеева [1908] и других использованы Ф. Гюботтером [Hubotter, 1913] в переводе с китайского языка на немецкий "Тибетско-китайской фармакологии и рецептуры". В этой работе приведено около трехсот названий лекарственного сырья, причем для ста восьмидесяти видов даны тибетские названия растений. Во введении автор отмечает трудности при идентификации сырья, особенно когда речь идет о местных названиях растений.
В 1931–1933 гг. А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичов приступили к изучению собранных к тому времени коллекций лекарственного сырья, применяющегося в медицине, и предприняли две экспедиции в Забайкалье. Материалы этих экспедиций, изучение коллекций сырья и трудов предшествующих авторов позволили им установить ботаническую принадлежность более пятисот тибетских растений [Гаммерман, 1932, 1934; Гаммерман, Семичов, 1930, 1963].
Изучение ассортимента лекарственных средств тибетской медицины позволило А. Ф. Гаммерман сделать выводы о том, что в Забайкалье использовалось до 50 % местного сырья, 20 приходилось на долю индийских растений, 20 — китайских и 10 % — среднеазиатских. Причем было отмечено, что в Калмыкии сокращается число индийских и китайских видов, но увеличивается доля среднеазиатских растений. Такая закономерность свидетельствует о целесообразности выделения указанных нами вариантов тибетской медицины.
При сопоставлении образцов сырья из различных коллекций, перепроверке опросных данных изучением натурального сырья исключается случайность определений и выявляются наиболее часто используемые в практике объекты [Гаммерман, Семичов, 1963; Гаммерман, 1966].
В процессе расшифровки тибетских названий растений А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичов работали с Атласом, иллюстрирующим трактат "Вайдурья-опбо". Из пятисот сорока рисунков, по их мнению, точное или предположительное определение получили четыреста тринадцать.
Во время экспедиций 1931–1933 гг. одновременно со сбором сведений о применявшихся в тибетской медицине растениях заготавливалось сырье для фармакологических и фитохимических исследований.
М. Д. Шупинская провела предварительный анализ химического состава ста двадцати видов растений, использующихся в практике тибетской медицины в Забайкалье, и отметила достаточно высокое содержание цепных биологически активных веществ у ряда растений [Гаммерман, Шупинская, 1937].
В это же время сбором сведений о применении лекарственных растений и их экспериментальным изучением занимался М. Н. Варлаков. Собранные им сведения о лекарственных растениях и их применении, а также данные фармакологических исследований опубликованы в 1963 г. В результате работы этих экспедиций и экспериментальных исследований изучены термопсис ланцетный, валериана каменная, синюха голубая и другие виды [Варлаков, 1963].
В годы Великой Отечественной войны отдельные лекарственные растения тибетской медицины изучались при Томском медицинском институте. В результате комплексного химического, фармакологического и клинического исследования предложены к применению кровохлёбка лекарственная, шлемник байкальский и др. [Яблоков, и др., 1949; Гаммерман, 1966].
Впоследствии эта работа была продолжена в Ленинградском химико-фармацевтическом институте и во Всесоюзном институте лекарственных растений. Свыше двухсот видов лекарственных растений подвергнуты химическому анализу на содержание биологически активных веществ [Куваев, Блинова, 1961; Карпович, 1961; Блинова, Архипова, 1967; Шатохина и др., 1974; и др.], изучено фармакологическое действие отдельных видов растений [Аркадьева и др., 1966; Аркадьева и др., 1968; Шатохина, 1974], но вопрос о сложных рецептах нигде не ставился [Гаммермап, 1966].
Исследованием лекарственных растений тибетской медицины занимаются и монгольские ученые. Ц. Хайдавом и Д. Чойжамцем [1965], Ц. Ламжавом [1971] опубликован список тибетско-латино-монголо-русских растений, применявшихся в практике монгольских лам-лекарей.
При составлении "Монгольско-русско-латино-тибето-китайской ботанической терминологии" [Мижиддорж и др., 1973] авторы широко использовали отечественную и иностранную литературу. Это позволило им дать многозначные расшифровки различных терминов и понятий, в том числе и названий растений из "Маньчжуро-тибето-монголо-уйгуро-китайского пятиязычного словаря".
Результаты историко-медицинских исследований обобщены в работе Ц. Хайдава и Т. А. Меньшиковой [1978], представляющей достаточно полную сводку о лекарственных растениях монгольской медицины.
Книга написана в основном на материалах опросных данных и, несмотря па то, что в ней приведены иллюстрации растений и фрагменты тибетских текстов из трактата "Дзэйцхар мигчжан", ссылок па этот трактат при описании лечебных свойств растений не дано.
При сопоставлении показаний к применению из упомянутой работы для отдельных растений с изучаемыми нами текстами трактата "Вайдурья-онбо" обнаруживаются расхождения и в тибетских названиях некоторых растений, и в показаниях к их применению. Ц. Хайдав и Т. А. Меньшикова [1978] объясняют это своеобразием народной медицины монголов. Авторы особо подчеркивают невозможность смешения монгольской народной медицины с тибетской, одновременно указывая на взаимное их обогащение как в вопросах лечения отдельных болезней, так и в ассортименте лекарственных средств.
Учитывая восприятие монголами теоретического наследия тибетской медицины, активное освоение местной флоры для замены импортного сырья с сохранением за ними тибетских названий, а также связи тибетской медицины с буддизмом, мы считаем более целесообразным рассматривать ее как монгольский вариант и при изучении использовать трактаты па тибетском языке, написанные монгольскими авторами.
При исследованиях в любой области теории и практики тибетской медицины невозможно не обращаться к работам, посвященным сравнительному изучению аюрведи-ческих и тибетских текстов.
В этом плане особого внимания заслуживает опубликованная в Индии работа В. Вагван Даш [Bhagvan Dash, 1974]. Его исследования по отдельным видам лекарственного сырья показывают, что хотя тибетская медицина и основана главным образом на Аюрведе, в трактатах существуют значительные расхождения при описании одних и тех же видов лекарственного сырья. Трудности в изучении подлинного сырья возникают ввиду недоступности его отдельных видов, фальсификации, многочисленности синонимов и введения в практику новых, иноземных растений с присвоением аюрведических названий. Поэтому автор считает, что установление научных названий подлинного сырья имеет важное значение для изучения лечебных свойств тех или иных видов растений, применявшихся в традиционных медицинах Востока.
В другой работе этого же автора приводятся тибетско-санскритско-латинские пазвапия растений [Bhagvan Dash, 197G]. В задачи этой работы не входила идентификация растений по описаниям тибетских трактатов, поэтому в тибетско-санскритско-латипских списках чаще даны растения из флоры Индии, многие из которых, как установлено нами, уже в XVII в. были заменены или тибетскими или китайскими видами.
Лекарственные средства, применяемые в Непале, изучает Ф. Мейер [Meyer, 1981]. Он справедливо указывает, что многие растения в "Словаре" А. Ф. Гаммермап и Б. В. Семичова [1963] являются заменителями тибетских видов, не растут в Тибете, Гималаях. Однако мы не можем согласиться с автором по ряду вопросов. Подробно это будет обсуждено в специальной работе.
Таким образом, имеются почти исчерпывающие сведения об ассортименте растений, использовавшихся в практике тибетской медицины в Монголии, Забайкалье, Непале. Но некоторые растения, использовавшиеся