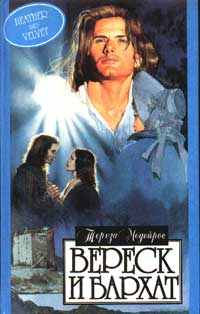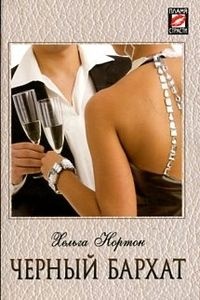…Всех полуостровов и островов в царстве Нептуновом, в озерных и морских водах Жемчужина, мой Сирмионе! О как рад я, Как счастлив, что я здесь, что вновь тебя вижу!
Наконец-то он вернулся ко мне. Он провел в моих объятиях еще одну ночь в гостинице «Красные медведи», и уже на следующий день мы счастливо тронулись в обратный путь на юг. У меня было легко на душе, потому что он в одно мгновение показал мне, что простил мой эгоизм и трусость и что по-прежнему не догадывается о подлинных мотивах, заставивших меня остаться. Первое, что он сделал, – это положил ладонь на мой живот и с надеждой заглянул мне в глаза. Когда же я покачала головой, он прижал меня к своей груди и сказал: «Что ж, мы можем начать сначала прямо сейчас».
Много позже он поднялся с постели и подошел к своему кожаному саквояжу. Он отдал мне свой детский портрет, который я поцеловала, надеясь, что он поймет: ту его часть, которая принадлежит Шпейеру, я люблю так же сильно, как и венецианскую, при условии, разумеется, что его немецкая половинка останется рядом со мной в Венеции.
Я не стану утомлять вас описанием нашего обратного путешествия, поскольку оно было сопряжено с теми же самыми тяготами и лишениями, которые лишь усилились с наступлением по-настоящему холодной погоды. Вы должны сами постараться вообразить себе водопады, роняющие ледяные слезы с черных скал, озера, укутанные рваными сетями промозглого тумана, укусы снежинок на моих щеках, старух в шалях, привязанных к тележкам, словно трупы…
Представьте себе ужасы первого нашего путешествия, удвоенные, но подслащенные мыслью о том, что мы возвращаемся обратно в Венецию.
Спускаться с гор оказалось гораздо труднее, чем подниматься, поскольку дорога испортилась окончательно. Впоследствии мне казалось, что весь путь вниз по склонам Альп до озера Комо я проделала, затаив дыхание. И только когда горы отступили окончательно, превратившись в невысокие холмы, словно взбитый яичный белок, оставленный на солнце, чтобы он осел, я вновь ощутила, что становлюсь самой собой. А когда до нас долетел запах моря, а дома и церкви начали удивлять своим разноцветьем, я поняла, что страхи перед драконами, привидениями, морозом и вообще горами оставили меня. Но лишь оказавшись дома, на равнинах над Венецией, я почувствовала, как с плеч моих свалилась их тяжелая ноша и я вновь могу дышать свободно.
Но все-таки путешествие наше не было таким беспросветно печальным, как в первый раз. Случился в нем и один приятный момент. Когда мы уже миновали озеро Гарда, хотя я всей душой стремилась поскорее попасть домой, муж убедил меня сделать небольшой крюк и заглянуть в Сирмионе, где пятнадцать веков назад жил римский поэт Катулл. Видите, уже в то время мой супруг вынашивал идею о том, чтобы напечатать поэмы Катулла, те самые поэмы, которым вскоре предстояло самым коренным образом изменить нашу жизнь. В Венецию попал один манускрипт, и все ученые-схоласты заговорили о нем.
В Сирмионе нас встретили живописные развалины древней римской виллы. До нас здесь уже побывали Фелис Феличиано со своим другом, художником Мантеньей[76], и как-то вечером в таверне они рассказали об этом моему мужу. Сюда они приплыли на лодке и устроили пикник в тени развалин, воображая, без сомнения, будто дух молодого Катулла вселился в их пьяные тела. Ну и, разумеется, именно эта парочка громче и настойчивее всех убеждала моего мужа напечатать эту опасную книгу, хотя он еще и в глаза ее не видел.
Но даже при этом меня не разбирало особенное любопытство увидеть Сирмионе, поскольку мне то и дело казалось, будто ветер с запада приносит на своих крыльях едва уловимый аромат Венеции. Однако муж настаивал, уверяя меня, будто место выглядит замечательно и я должна посмотреть на него хотя бы раз в жизни.
В конце концов, хотя это обошлось нам в лишних два дня, я осталась благодарна ему за то, что он настоял на своем.
Если когда-нибудь я совершу ужасное преступление и вынуждена буду покинуть город, то единственное место в мире, в котором я смогу жить, это Сирмионе.
Там должны побывать все.
Оно забылось мечтательным сном на берегу озера, окутанное ореолом солнечного света, на небольшом, выступающем в море мысу, узком и вытянутом. В этом свете ближний берег выглядит почти прозрачным, словно карандашный набросок, стирая береговую линию вдали, отчего окружающая местность напоминает райский уголок, парящий высоко в небе на облаках и отражающийся в опрокинутой воде.
Мы прошли под арочными сводами, амфитеатром обступившими озеро, и хор птиц наполнил наши сердца сладчайшим пением и оживил наши души. Сирмионе поражал не только красотой своих цветов, но и благоуханной сенью апельсиновых и лимонных деревьев. Повсюду били подземные источники, и ветки гнулись от гроздьев плодов, в сердцевине которых теплилось солнечное пламя. То и дело мы натыкались на следы древности: мраморные колонны были сплошь изукрашены надписями.
Над головами у нас порхали воробьи, коричневые головки которых блестели, словно каштаны. Увидев птиц, я сделала себе мысленную зарубку, что должна рассказать о них Бруно Угуччионе и не забыть при этом упомянуть и об их северных собратьях, так напугавших меня своим странным бесцветным оперением. Но это были настоящие венецианские воробьи – самцы с грудками, испещренными черными пятнышками, и с серьезными шапочками. Их пушистые и нежные подруги держались на почтительном расстоянии и выглядели гораздо скромнее; их раскраска походила на выцветшую одежду, забытую за ненадобностью на чердаке.