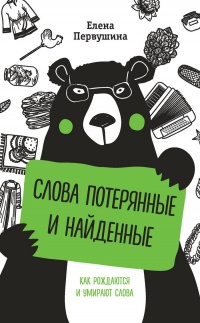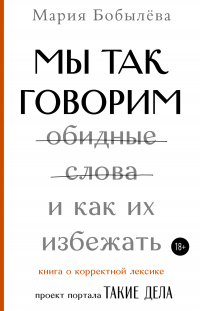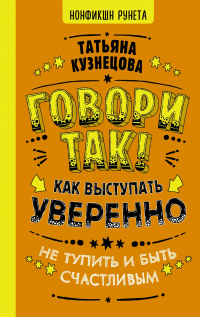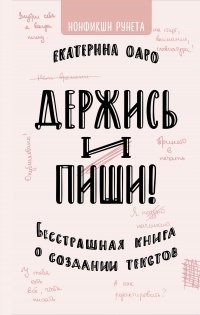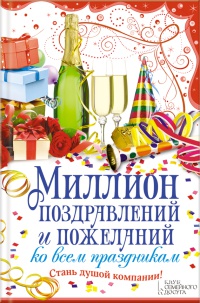Голова моя машет ушами, Как крыльями птица. Ей на
Маячить больше невмочь. Черный человек, Черный, черный, Черный человек На кровать ко мне садится, Черный человек Спать не дает мне всю ночь.
Образ головы, мечтающей оторваться от тела, – неожиданный, но понятный. А вот что за «шея ноги»? Литературовед Лидия Яковлевна Гинзбург полагала, что это просто… опечатка и в рукописи у Есенина стояло «на шее ночи». «Шея ночи» – это, разумеется, тоже катахреза, и очень выразительная, но более уместная в этой поэме, где речь идет о ночном кошмаре.
Итак, катахреза в опытных руках из неправильности и нелепицы превращается в могучее оружие, которое бьет метко и точно, вонзается глубоко и не дает о себе забыть. И, что самое удивительное, читатели за это авторам только благодарны.
2. ОКСЮМОРОН
В пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» один из героев – волшебник – рассказывает зрителям:
«Обыкновенное чудо» – какое странное название! Если чудо – значит, необыкновенное! А если обыкновенное – следовательно, не чудо. Разгадка в том, что у нас речь пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга – что обыкновенно. Ссорятся – что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И наконец сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, – что и удивительно и обыкновенно.
А что такое «обыкновенное чудо» с точки зрения филолога?
Это оксюморон.
«Литературная энциклопедия» поясняет нам:
ОКСЮМОРОН (греч. – «острая глупость») – термин античной стилистики, обозначающий нарочитое сочетание противоречивых понятий. Пример: «Смотри, ей весело грустить / Такой нарядно-обнаженной» (Ахматова). Частный случай О. образует фигура contradictio in adjecto, – соединение существительного с контрастным по смыслу прилагательным: «убогая роскошь» (Некрасов).
Для фигуры О. характерна подчеркнутая противоречивость сливаемых в одно значений: этим О. отличается как от катахрезы, где отсутствует противопоставление соединяемых противоречивых слов, так и от антитезы, где нет слияния воедино противопоставленных понятий.
Возможность осуществления фигуры О. и ее стилистическая значимость основаны на традиционности яз., на присущей ему способности «обозначать только общее». Слияние контрастных значений осознается поэтому как вскрытие противоречия между названием предмета и его сущностью, между традиционной оценкой предмета и его подлинной значимостью, как вскрытие наличных в явлении противоречий, как передача динамики мышления и бытия. Поэтому некоторые исследователи (напр., Р. Мейер) не без основания указывают на близость О. к парадоксу.
Наличие О. как стилистической фигуры само по себе, разумеется, не характеризует ни стиля, ни творческого метода писателя. Правда, делались попытки видеть в обилии О. типичную черту романтического и риторического стилей – стилей эпох особого обострения общественных противоречий (Р. Мейер). Но эти попытки вряд ли можно признать доказательными. Определение значимости О. для какого-либо стилистического целого возможно, разумеется, лишь путем анализа его содержания, его направленности; только тогда вскрываются существенные различия между даже словесно близкими О. – как приведенные выше О. Некрасова («убогая роскошь») и Ахматовой («нарядно-обнаженная»).
Итак, «оксюморон» – это не просто странное словосочетание (как катахреза), но соединение двух противоположных понятий.
Кстати, ударение в этом слове падает на букву Ю: «оксЮморон», а произношение «оксюморОн» – хотя, возможно, и более привычно, но все же неправильно.
Примеры вы без труда подберете сами, поскольку авторы очень любят использовать оксюмороны для названий книг или фильмов. Выше уже упоминалось «Обыкновенное чудо». А еще есть пьесы «Горе от ума» Грибоедова, «Живой труп» Льва Толстого, «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, повести «Барышня-крестьянка» Пушкина и «Честный вор» Достоевского, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева, фантастический роман «Конец Вечности» Айзека Азимова, фильмы «С широко закрытыми глазами», «Назад в будущее» и «Правдивая ложь». Оксюмороны честно служат писателям, выполняя ту работу, которую на них возложили, – привлекать внимание читателя или зрителя.
* * *
Но бывает, когда излишнее внимание вредит. Владимир Набоков в своем романе «Дар» описывает эпизод, явно взятый «прямо из жизни». Главный герой романа – поэт Федор Константинович Годунов-Чердынцев – приходит на заседание литературного общества, где должен читать свою пьесу молодой автор:
Уже в самом начале наметился путь беды. Курьезное произношение чтеца было несовместимо с темнотою смысла. Когда, еще в прологе, появился идущий по дороге Одинокий Спутник, Федор Константинович напрасно понадеялся, что это метафизический парадокс, а не предательский ляпсус.
Увы этим надеждам не суждено было сбыться! Автор плохо знал русский язык и допустил этот оксюморон неспециально. В литературе же, в отличие от юриспруденции, за неумышленные преступления строго карают, а за умышленные могут даже оправдать.
Например, никому не придет в голову предъявлять претензии Толстому за его «Живой труп», ведь это вовсе не повесть о «ходячих мертвецах», а история человека, вынужденного прикинуться мертвым, чтобы дать свободу своей жене и позволить ей выйти замуж во второй раз. «Горячий снег» – роман о боях под Сталинградом, поэтому оксюморон в названии оправдан и, более того, перестает быть оным. Подобное происходит и в песне с тем же названием, написанной А. Пахмутовой на стихи М. Львова: