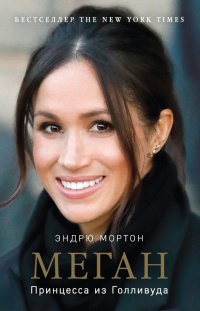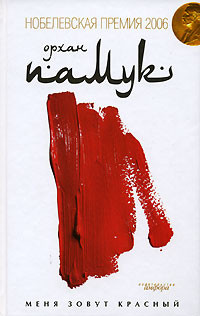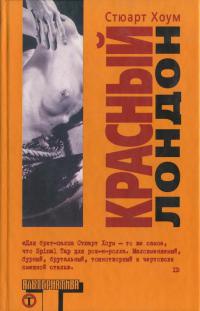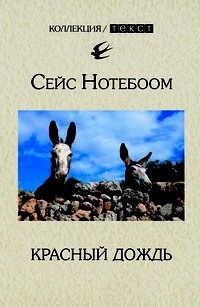Эти глаза! К ним я как-то не был подготовлен. На знакомом лице они были ‹…› прекрасной неожиданностью — интенсивная голубизна взора. Светлый тон действовал тем поразительнее, что он выделялся на почти темном фоне окружающих его теней. Глубокие круги вокруг глаз относились к сокровенным чертам этого тысячи раз сфотографированного лица; однако никакой портрет не передает светлой интенсивности взора. Глаза! Какие они голубые! И так ясны… Удивительно ясны! Кто бы мог подумать… ‹…› Я не спросил его о положении в мире; это было бы неприлично. — Клаус Манн.
Поскольку у ФДР хватало забот, в отношениях с деятелями культуры его часто подменяла Элеонора, склонная к диссидентству уже в силу своей бисексуальности.
Рассудительная сердечность ее улыбки оживляла любое застолье; ее добрый взгляд распространял доверие. ‹…› Только женщина столь аристократической породы и столь демократического сердца может найти достаточно мужества для той совершенной простоты, с которой эта непринужденно-веселая first lady[18] выступает, говорит и действует. — Клаус Манн.
Когда в 1939-м Дайс вызвал на допрос руководителей Конгресса американской молодежи, созданного в 1935-м правительством «молодежного парламента», первая леди присутствовала в зале. А затем предложила допрошенным активистам, по случайному стечению обстоятельств состоявшим в комсомоле, пансион в Белом доме. Эбботт Саймон, член редколлегии коммунистического Champion, две недели спал в кровати Линкольна.
В Белом доме проходили выездные представления «Булавок и иголок» и показы политически значимых фильмов. Президентский кинозал, появившийся при Вудро Вильсоне, мог претендовать на роль символа необратимых перемен в американской политической жизни. На «инаугурации» зала показали расистское «Рождение нации» — теперь крутят «Испанскую землю».
Приглашение в Белый дом отпускало любые грехи. В сентябре 1937 года в здании Почтового ведомства были торжественно открыты заказанные правительством панно Рокуэлла Кента во славу американской почты. На одном из них эскимосы на собачьих и оленьих упряжках провожали почтовый самолет. На другом — пуэрториканские женщины получали письмо эскимосов. Текст письма хорошо читался. Другое дело, что никто в США, за исключением жителей Аляски, не владел эскимосским диалектом, на котором оно было написано. Въедливая журналистка Руби Блэк нашла лингвиста, способного расшифровать послание:
Наши друзья, народы Пуэрто-Рико! Давайте действовать, давайте сменим вождей. Только это сделает нас равными и свободными.
Публикация перевода вызвала газетный шторм: «Эскимосы призывают пуэрториканцев свергнуть иго дяди Сэма», «На панно Кента написан призыв к восстанию».
Настойчивость Блэк объяснялась тем, что Пуэрто-Рико, оккупированное в ходе испано-американской войны (1898), было самой горячей точкой Америки. Остров попал в порочный круг террора. В октябре 1935-го полиция застрелила шестерых человек на территории университета. В феврале 1936-го сторонники независимости в ответ убили начальника полиции Сан-Хуана. 21 марта 1937-го полиция расстреляла разрешенную (разрешение было отозвано за час до начала) демонстрацию, убив 19 мирных граждан и — «дружественным огнем» — двух своих офицеров.
Кент был вовлечен в пуэрториканские страсти как свидетель защиты пуэрториканского лидера Альбису Кампоса: впрочем, когда дело дойдет до суда, Кенту просто запретят давать показания.
Короче говоря, послание эскимосов стало достоянием общественности в самый неудачный — не для Кента, а для ФДР — момент.