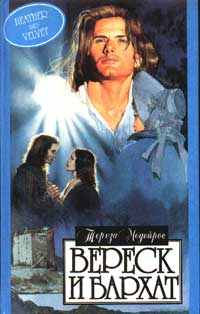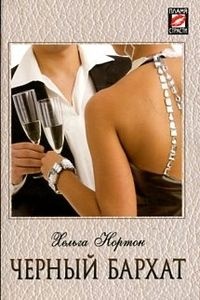…Если бы даже, свершить не успев преступлений тягчайших, Голову низко нагнув, стал он казнить сам себя.
Октябрь, 62 г. до н. э.
Приветствую тебя, брат!
Что там у вас новенького на Востоке? Надеюсь, прошедшие месяцы не стерли моего имени с дощечки твоей памяти?
Я давно не получал от тебя известий, и до меня доходят лишь устаревшие новости от нашего отца. Или ты ранен в руку, которой держат стило, солдат? При твоем роде занятий молчание пугает тех, кто любит тебя. Пиши.
Мои новости? Ничего особенно выдающегося. Теперь я все время сочиняю; то есть когда не свечусь от выпитого. Свои трезвые часы я провожу с другими молодыми поэтами Александрийской школы, и тогда мы предаемся невоздержанности, утонченной деликатности и, естественно, усладам Венеры. Наш избранный кружок предпочитает все маленькое и безупречное по форме (а к героическому и легендарному мы питаем отвращение). Мой фалеков гендекасиллаб[77] почитается изысканно-безупречным, а мои ямбические выкрутасы служат символом безудержного веселья! Даже Целию удается кропать нечто более впечатляющее, нежели его обычные слабые и бессильные стишата.
Нас занимает концепция синестезии, предложенная греками: каким образом в письменной форме сочетание двух или более ощущений доставляет непропорционально большое удовольствие? Кроме того, почему звучание некоторых согласных, пристегнутых к определенным гласным, может тронуть человека до слез, если язык ему незнаком?
Так, например, я придумал новое слово для обозначения поцелуя. Прежнее выражение «засос», на мой взгляд, означает то, что делают слизняки. Оно обладает чувственной манерой выражения, напоминающей о высасывании косточки из апельсина. Я позаимствовал из нашего кельтского диалекта в Вероне и предложил слово basium – по крайней мере, его хотя бы приятно произносить. А простые поцелуи я обозначаю как «страстные ласки губами» – ощущение, которое заставляет тебя желать прижаться губами к другим губам, поскольку твои собственные уже обобраны дочиста.
Редкий день поэма остается запертой во мне.
Я располагаю многими часами – иногда целыми днями, – когда мои услуги не требуются Клодии. Но я не хандрю в ожидании. Я прожигаю время между нашими встречами. Я занимаюсь всем, чем душа пожелает. Я бываю во всех модных местах, где положено бывать. Небрежным взмахом я отсылаю прочь слугу, желающего разбавить мое вино водой. Я получаю ленивое удовольствие, блуждая пьяным по улицам полночного Рима, взявшись за руки с двумя собратьями-поэтами. Я пренебрегаю всеми завуалированными сделками в дверных проемах недоступных простым смертным заведений, потому что меня, Катулла, всегда с готовностью приглашают внутрь. Я пью и играю со своими рабами, а на Календы[78] моя маска животного была самой комической и нелепой. В этом году я был маленьким оленем с огромными рогами и красным, как раскаленный уголек, носом. Клодия нарядилась гиеной.
Ее брат Публий Клодий, разумеется, предпочел женские одежды. Ходят слухи, что с ним это случается не только на Календы. Я стараюсь избегать его общества, но он неизменно высматривает меня и радостно приветствует, когда замечает. А если я прохожу мимо него слишком близко, он вытягивает руку, и меня передергивает от отвращения, когда я чувствую его прикосновение, липкое и мягкое, словно чих ребенка. Он заставляет меня испытывать неловкость такими способами, которые я не осмеливаюсь перечислить. Речь идет не просто о показной ласке, которой он одаряет сестру даже – или, пожалуй, особенно – в моем присутствии, или о тупоголовых громилах со стеклянными глазами, что толкутся на лестнице, когда он уединяется с нею. Это ощущение того, что для его морального разложения нет преград и пределов. Нет такого, чего не совершил бы Клодий. Он разрушил бы все до единого здания в этом городе, если бы мог, храм за храмом, бордель за борделем.
Но, признаюсь тебе, я тоже люблю шокировать других.
Однако не так, как Клодий. У меня это просто забавная выходка или соленая шутка на чей-либо счет. Большей частью.
Например, однажды я заметил, что запах изо рта у Эмилия хуже вони у него же из задницы, потому что у последней, по крайней мере, отсутствуют его длинные гнилые зубы, – которые похожи на деревянные брусья, не дающие навозу вываливаться наземь из повозки. Одну из поэм я посвятил Руфусу, от которого воняет, как из преисподней. Я сочинил – в форме сонета – историю о том, что у него под мышкой прячется сексуально возбужденный козел, отпугивающий женщин. Или о Фуриусе, который настолько скуп, что не хочет испражняться. Я написал, что его нечастый стул сух, как бобы, и пахнет розовыми лепестками.
Мои излюбленные жертвы – другие писатели. Я позволяю себе оскорблять самые лучшие их труды. Никудышную бумагу, перепачканную «Анналами» Волузия[79], я называю не иначе как cacata carta[80]; я умудряюсь испоганить даже предмет любви, к которому обращены их унылые речи.
А когда я не могу оскорбить кого-нибудь, кого знаю, то всегда готов разразиться анонимными остротами, грязными, естественно. Мужской член в моем изложении – это колбаска, которая сама для себя делает подливу.
Отец присылает умоляющие письма из Вероны, потому как здоровье мое продолжает ухудшаться. Иногда я приезжаю домой, но только Рим – единственное подходящее место для того, чье сердце медленно растрескивается у него на глазах. Рим, а не нежная красота Сирмионе, от которой наворачиваются слезы, или холмистые поля у озера.
Рим дает мне массу материала для моих метафор. Увечья, наносимые Клодией моим чувствам, ежедневно наносятся в общественных местах Рима, причем куда более грубыми орудиями пыток: бичом, бочкой кипящей смолы, дыбой, хлыстами со шпорами и пылающими факелами, которыми прижигают кожу. Каждый день я прохожу мимо мужчин, распятых или согнувшихся пополам на маленькой дыбе. Я вхожу в открытую дверь и вижу раба, которого истязают кнутом в атриуме[81] (подобное наказание всегда стараются сделать как можно более публичным, дабы пресечь дальнейшее неповиновение). Я вижу, как палачи направляются к преступникам, дабы пытать и казнить их на городской площади. Я видел посаженные на кол тела у Эсквилинских ворот[82]. Даже редиска и кефаль, предположительно безвредные продукты, употребляемые в пищу, применяются в качестве болезненных суппозиториев[83] для наказания виновных в прелюбодеянии, причем опять-таки в общественном месте, чтобы толпа видела боль и унижение себе подобных.