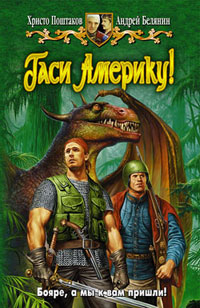КОМНАТА, И НИКАКОЙ ФАНТАСТИКИ
Как всегда, глаза открывать не очень-то хотелось — кто знает, что там сегодня творится? Но всё-таки пришлось. Сначала действительно не было ничего страшного.
Рядом с ним лежала какая-то темнокожая красавица, замечательная, как Наоми Кемпбелл, хотя и более рослая, чем он сам. Она ровно дышала во сне, и глаза её под веками двигались. Он рассматривал её довольно долго и подробно, она почувствовала взгляд, попыталась его погладить, но он увернулся. Поднялся, осмотрелся по-настоящему.
Комната стала раза в три больше, чем была вчера, до сна. И пол у неё сделался интересный, на четверть площади — линолеум, прямо под босыми ногами, и откуда-то дуло. Чуть далее, сросшись с линолеумом, начинался ковролин, который переходил в метлахскую плитку, грязную и грубую, как матерное ругательство Зато она уже переходила в паркет, местами прерываемый настоящими коврами с растительным рисунком. Посередине паркетного куска стоял унитаз, размерами в самый раз для девицы, что ворочалась в кровати. Делать было нечего, природа брала своё, он прошлёпал до унитаза, оправился.
А вот руки вымыть было уже негде, куда-то пропал кран, который с раковиной вчера рос, кажется, из стены. Сегодня его приходилось искать.
Он оделся. Махровый халат в дурацкий горошек, к которому он уже и привыкать стал, потому что тот не исчезал больше недели, если он правильно ориентировался во времени, превратился в короткополый меховой кафтан, в таких щеголяли принцы века эдак четырнадцатого. И рядовые джинсы сделались бриджами с завязочками под коленями, хотя штанины были неодинаковой длины. Но кто же будет обращать внимание на такие мелочи? Хорошо ещё, что хоть трусы на нём остались, а то однажды сделались они поношенной шкурой, в которой блох было больше, чем на своре дворовых собак. Против собак он ничего не имел, но блохи в большом количестве — это не для слабаков.
Раковину он не нашёл, но на подоконнике стоял фаянсовый кувшин и, кажется, оловянная миска, пришлось умываться просто так, без мыла, как бы в соответствии с кафтаном. Вот только это окно да компьютер неподалеку от кровати и оставались в этой комнате вечными, все остальное менялось, и невозможно было предсказать, что будет завтра, после сна.
Иногда, когда он «записывался» до того, что в глазах темнело от экрана, а текст получался слишком уж реалистичным, комната менялась за его спиной и во время письма. Беззвучно делалась то маленькой и голой, как тюремная камера, то бесконечной, так что из удаляющейся темноты, в которую превращались стены, веяло настоящим морским или каким-нибудь другим, например, пустынным ветром. Иногда из этой дали доносились неприятные звуки, то кто-то кричал, может быть умирая под пытками, а то рычали звери, о которых он и думать не хотел.
Окно стояло пока непрозрачным, в красивых морозных узорах, которые почему-то лежали с его стороны, внутренней, если так можно сказать. Он посмотрел на Наоми, на её великолепную стать, подумал и принялся протирать стёкла, чтобы понять, где же он сегодня оказался. Соскоблить наледь оказалось нелегко, тем более что окно немного проминалось, как жидкокристаллический экран под пальцем, образуя странные разводы.
Внезапно в окне что-то щёлкнуло, развиднелось, и он увидел… Это была зимняя деревенская улица, грязная до последней возможности, кучи навоза и какого-то тряпья валялись там и тут… Не сразу, но он догадался, что это трупы. Из-за края окошка появилась процессия. Вооруженные, небритые люди с покрасневшими от недосыпа глазами и в обгоревшей одежде. Лица у них тоже были закоптелыми, как и руки. Некоторые сжимали факелы — деревню, которая образовывала недавно эту улицу, они сожгли основательно, но не хотели успокаиваться. За передовым отрядом в два десятка верховых тащились телеги на сплошных деревянных и отчаянно скрипучих колесах. В повозках находилась добыча, которую этот отряд тут заграбастал. Жалкая то была добыча, но некоторые из пехотинцев поглядывали на телеги с удовлетворением, они уже прикидывали свою долю и предвкушали удовольствия, которые сумеют за них купить. Вино, доступные женщины и, может быть, немного чистой одежды, где нет окаянных блох.