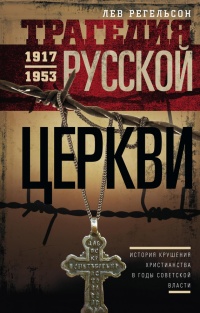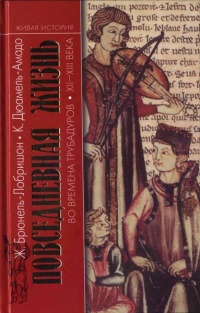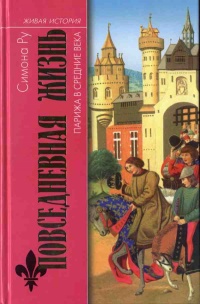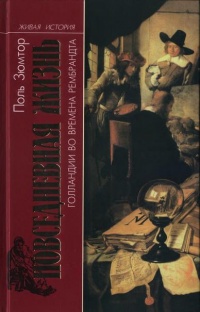Закончили два друга-рифмача Трагедию, но нет конца раздорам. — Я автор! — клялся, в грудь себе стуча, Леклер. — Нет, я! — кричал Кора с укором. Хотел то первый, то второй поэт Соперника низвергнуть с пьедестала. Но только пьесу выпустили в свет, Слыть автором желающих не стало.[16]
Шаппюзо, по своему обыкновению, слишком оптимистичен; по поводу единоборства соперничающих пьес он пишет:
«Они стараются порой навредить друг другу мелкими уловками, но никогда не доходят до большого скандала». Правда, он писал это в 1673 году; четыре года спустя история с «Федрой» резко опровергла его утверждения.
Эту историю следует пересказать подробно, ибо она являет собой яркий пример театральных интриг. «Федра» Расина с Шаммеле в главной роли была представлена в Бургундском отеле 1 января 1677 года. Однако партия «корнелевцев» под руководством герцогини Бульонской и ее брата герцога Неверского, весьма враждебная к Расину, нашла ему соперника в лице Прадона, который спешно состряпал трагедию «Федра и Ипполит», поставленную в отеле Генего через два дня после пьесы Расина.
Герцогиня Бульонская, затеявшая всю эту интригу, заранее скупила все ложи в обоих театрах на шесть представлений, чтобы устроить шумный прием пьесе Прадона и пустоту на пьесе Расина. Вечером 1 января госпожа Дезульер, входившая в заговор поклонников Корнеля, сочинила сатирический сонет против трагедии Расина, получивший широкое распространение в салонах и литературных кругах. В сонете кратко излагался сюжет пьесы, при этом сочинительница ядовито отзывалась о «заумных» стихах Расина и о их чересчур христианском духе, а также отпускала шпильки в адрес мадемуазель д’Эннебо, дочери Монфлери, которая играла роль Арисии.
Расин, жертва бесчестных происков герцогини Бульонской и насмешек госпожи Дезульер, воспринял сонет очень болезненно и подбил своих друзей написать ответ в той же форме, с теми же рифмами. Те подумали или притворились, что подумали, будто первый сонет написал герцог Неверский, поэт-любитель, и обратили свои стрелы на него. Контратака была остроумной, хоть и резковатой. Авторы делали явный намек на чересчур нежные, на их взгляд, чувства, которые герцог Неверский питал к своей сестре Гортензии Манчини, герцогине Мазарини, — сумасшедшей авантюристке.
Герцогу Неверскому не понравился этот сонет, который он приписал Расину и Буало, хотя оба от него открещивались. Но даже если не они его сочинили, то он их очень позабавил. Герцог срифмовал еще один сонет, в котором заявил, что палкой отомстит за свою поруганную честь.
Дело портилось, принимая опасный оборот. Потребовалось вмешательство самого Великого Конде. Он не питал особой нежности к герцогу Неверскому, племяннику Мазарини, который некогда заточил его в Бастилию.
Поэтому принц заявил, что «отомстит, как за самого себя, за оскорбления, нанесенные двум умным людям, которых он любит и берет под свое покровительство». Перед раскатами этого громового голоса герцог Неверский затих. Расин и Буало дешево отделались.
История с сонетами позабавила весь Париж и послужила отличной рекламой обеим пьесам, которые имели неплохой успех. Единственная разница была в том, что трагедия Прадона сошла с репертуара навсегда после трех месяцев представлений, а пьеса Расина до сих пор восхищает всех образованных людей и любителей театра.
Итак, театральная жизнь в Париже XVII века была оживленной, полной споров и интриг. Для наших комедиантов все такие происшествия были как манна небесная, поскольку благодаря им сборы сыпались, как из рога изобилия.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ТЕАТР В ПРОВИНЦИИ
Глава первая Театральная жизнь в провинцииВ Париже, благодаря расцвету новой качественной драматургии, таланту актеров, любви к театру образованной и даже утонченной публики, театральная жизнь набирала обороты на протяжении всего столетия, но что происходило в провинции, вдали от двора, переместившегося в Версаль, где только и можно было достичь большого успеха и чей блеск бросал свои отсветы на современный ему театр?
В провинции, как известно, гастролировали странствующие труппы, самой знаменитой из которых была мольеровская. Но эти труппы, кочевавшие по крупным городам, где они могли собирать большие залы, даже не заглядывали в небольшие городки, а уж тем более в какие-нибудь поселки, затерянные в горах.