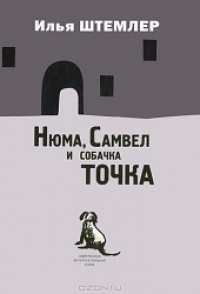Тринадцатый троллейбус, покачивая беременным брюхом, заворачивает на проспект Ленина: в самый центр, где на «Алом поле» первая пересадка. Возникают красивые дома, точно вагон въехал в совсем другой город. От Марины исходит целенаправленный жар томления, который хочется назвать «незримым», хотя разве жар, исходящий от женщин, вообще видно? Вася ощущает его топлёную реальность с такой полнотой переживания, точно видит. Точно руками трогает, погружая в тепло подушечки пальцев.
Но разговоры ведут демонстративно неспешные, отвлечённые. «Про общих знакомых». Маруся вспомнила самоубийцу из бывшего «д», Вася не в курсе.
– Я только про Алика Юмасултанова знаю, слышал, сожгли его в лесопосадках, тело нашли обгорелое[25].
– Ужас какой, мама дорогая.
– Но ты его вряд ли знала. Он был не очень приметным. Мы звали его «Золотая лета», вроде из приличной семьи (читай: ничто не предвещало) – мама в Торговом центре работает, золотом торгует, на дефиците сидит.
Ул. Цвиллинга. По направлению к вокзалу
Вася смотрит в пыльное окно трамвая, идущего мимо бурых мозаик татаро-башкирской библиотеки к стадиону «Локомотив»; видит себя со стороны – все эти чужие, законсервированные интонации «взрослого отношения» к жизни: немного усталого, чуть цинического, всепонимающего. С налётом лёгкой иронии. У него со страстью всегда так – стоит войти в её клинч, и сознание будто бы раздваивается на себя и себя, приподымается на подмышках над реальным телом и наблюдает за собственными реакциями, включая дополнительный глаз.
– Золотая лета – из-за маминой профессии, конечно же?
– Нет-нет, задали нам сочинение «Как я провёл каникулы», ну, когда я ещё написал про поездку во Львов, а мне религиозную пропаганду впаяли, помнишь? Ну, неважно. Сочинение, которое Алик Юмасултанов написал, училка зачитала перед классом целиком. Там всё было хорошо. Но лучше всего запомнилась первая фраза, «наступила золотая лета», так за ним и осталось.
Значит ли это, что сейчас, в третьем трамвае (среди редких людей, которым он точно невидим), его плавит и буравит медленная страсть? Значит ли это, что страсть – это когда тебя так много, что перестаёшь вмещаться в тулово, отведённое для обыденного существования? Вот и раздваиваешься, выплескиваясь за границы его, вырываешься из грудной клетки вовне?
– Смерть – это все мужчины: галстуки их висят[26]. – Асфазия знаешь что такое? Вижу, что не знаешь.
– В медицинской энциклопедии посмотрю, у нас же все 33 тома, а это первый, максимум второй…
– Можешь не смотреть. Это когда тебя душат. Или ты сам себя душишь, чтобы продлить и увеличить удовольствие.
Маруся поднесла пухленькие пальчики к шее и показала.
– Удовольствие? Это же неприятно и… больно…
Вася искренне не понимал подруги, имевшей старшую сестру Светку (вылитая София Ротару), учившуюся в медучилище на фельдшерицу. Маруся закатила глаза, как пожилая кокотка.
– Больно? Подрастёшь, поймёшь, что и боль тоже может приносить удовольствие.
Вы поедете на бал?
Так бы они и ехали до кольца и по кольцу, лишь бы разговаривать. Пару лет назад, ещё в классе шестом (вероятно, зимой, когда рано темнеет и постоянно хочется спать), сложился у них ритуал ежевечерних перетираний да разборов. Подробно, дотошно, с пристрастием, ковырянием в деталях перебирали они, что случилось днём, в школе и дома, с соучениками и родителями, буквально обо всём и ни о чём. Не заметили, как во всё это втянулись по уши (причём непонятно, кто больше), хотя личных границ никогда не переходили – вроде бы как личная жизнь у каждого сама по себе, «на стороне». А здесь, в девичей спальне (сумерничали в основном у Тургояк, под шум телевизора за картонной стеной – Светка к тому времени вышла замуж и отчалила), мы только «плюшками балуемся», совершенно невинно, как лучшие друзья. Или, скорее, подруги?