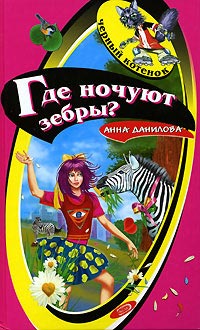молния, стрельнула по потолку и теперь медленно, но верно ползла вниз. У двери висел неизбежный Чайковский, но и на нем нельзя было остановить взгляда – Петр Ильич смотрел Грише в спину, и поэтому не приходилось рассчитывать на его сострадание. Хотя, если подумать, о каком сострадании могла идти речь, разве не он заварил всю эту кашу: болезнь куклы, похороны куклы, новая кукла, – сколько уже можно издеваться над человеком, да пусть она поскорее умрет, эта его кукла.
Подоконник в кабинете был девственно-пустым – ни занавесок, ни комнатных растений, даже мещанской герани на нем не стояло. Бабушка любила говорить, поливая белые фиалки на кухонном шкафу, что герань – это самое настоящее мещанство, но Гриша готов был бы поступиться семейными принципами и согласиться на герань – так одиноко, так душно было ему в кабинете музыки. Здесь были только он и она: Гриша и Овсянка, и он был полностью в ее власти, весь с потрохами, от самого низкого до – до самого высокого.
Урок начинался с того, что Гриша садился на табуретку, боязливо протягивал учительнице руки, и Овсянка молча проверяла длину ногтей. Она прощупывала его ногти подушечками своих пухлых пальцев и, если с предыдущего занятия края успевали хоть чуть-чуть отрасти, раздосадованно качала головой, извлекала из сумки маленькую цветастую косметичку, доставала из нее ножницы и безжалостно уничтожала любые намеки на ногти.
– Ну что, милый мой, Черни выучил наконец? А «Куклу»? – интересовалась Овсянка, убирая ножницы в косметичку. Вопрос был риторическим, оба знали, что и «Кукла», и этюды Черни поживают у Гриши из рук вон плохо.
Медленно, нехотя, Гриша ставил ноты на пюпитр, а потом долго отлистывал до нужной страницы, пытаясь тянуть время.
Почти все ноты своим детям Овсянка выдавала сама, считала современные пособия никуда не годными, и ветхие, пожелтевшие страницы несли на себе отпечатки страданий ее учеников: номера пальцев, поверх которых Овсянка писала новые, потому что далеко не у всех четвертый палец мог взять ре-диез второй октавы; лиги, перескакивающие радугой через такт, – спасибо хоть, что следов крови на страницах не было. А еще то тут, то там вылезали воззвания, крики Овсянкиной израненной души, приправленные многочисленными восклицательными знаками: «счет», «не спеши», «следить за четвертым пальцем».
Овсянка близко придвигала свой стул к Гришиному и зажимала его в плотное кольцо. Одна ее рука постоянно сопровождала Гришину на клавишах: поправляла пальцы, трясла кисть, поддевала вверх локоть. Другая же лежала на спинке его стула, и, если Гриша сбивался с такта, она отстукивала по Гришиной спине ритм исполняемого произведения.
– Раз-и, два-и, три-и. – В Гришину спину вонзались тяжелые пальцы, и даже через плотный пиджачок школьной формы выходило довольно больно. – Я сказала, три-и, выдержи здесь паузу. Паузу выдержи!
От такого нажима, физического и морального, Гриша входил в ступор и играл еще хуже.
Когда было совсем невмоготу, Гриша просто отдавал Овсянке в пользование свои руки, и, пока она вбивала его пальцами в клавиши то, что ей было нужно, сам он мысленно переносился в Париж. Там вместе с д'Артаньяном он назначал дуэли и сражался с гвардейцами кардинала. Ему почти удавалось забыться, но потом откуда-то с улицы поверх конского топота вдруг раздавалось «Локти не зажимай! В подмышках должен быть воздух!», и Овсянкины пальцы снова впивались ему в спину и возвращали в родную дэ-эм-ша. Грише только и оставалось, что вспоминать бабушкину коронную фразу, которую та произносила, когда ее по-хамски обслужили в магазине или не уступили место в трамвае: «За дела их темные воздастся им сполна». Гриша утешал себя тем, что когда-нибудь настигнет Овсянку возмездие, и воздастся ей за обкромсанные ногти, израненные детские спины и вычеркнутые из жизни годы.
А Овсянка ни о чем таком не подозревала, ни о каком предначертанном ей возмездии и знать не знала и очень бы удивилась таким Гришиным думам. Ведь она-то и была настоящей праведницей, мученицей, невестой – только не Христовой, а сразу всех тех, что чинно смотрели на Гришу со стен, – Баха, Бетховена, Чайковского, Шуберта. Всю жизнь она положила, отдала себя без остатка педагогической работе и уже почти сорок лет выколачивала из детей – и выколотила-таки – и студентов консерватории, и концертирующих пианистов. А один, Сашенька Лифшиц, – да-да, тот самый, которому она привязала ногу, и родители, помнится, устроили страшный скандал, а потом, между прочим, приходили с цветами, извинялись, благодарили, – Сашенька Лифшиц этот недавно выступал на конкурсе Италии, занял там второе место, даже по телевизору показывали. Ну и конечно, она воспитала целую плеяду педагогов Овсянкиной школы, которые продолжили выколачивать все то же самое уже из своих учеников.
Да, безусловно, был, как и в любом деле, определенный процент брака, вот, например, с этим Гришей. Сначала она страшно мучилась с ним: это был редкий случай, когда мальчик был лишен всего – и слуха, и ритма, и голоса, и терпения, и хоть какого-то желания заниматься. Но со временем в Овсянке проснулся азарт. Ее вдруг осенило, что на закате жизни ей был послан профессиональный вызов в виде этого дубового мальчика. Нет, конечно, в Гнесинку он не поступит, но пусть хоть окончит школу, она доведет его, дотащит, он сыграет у нее на выпускном шопеновский ноктюрн, потому что его играли все Овсянкины дети, а потом можно будет выходить на пенсию, сил уже ж больше нет, и преподавать на дому.
Овсянка уже несколько лет подумывала о пенсии, нелегко ей было ездить на метро с двумя пересадками, потом ковылять от метро до школы, а потом подниматься по лестнице на третий этаж, с ее-то одышкой, и диабетической стопой, и левым тазобедренным суставом, который совсем барахлил, так что последнее время приходилось ходить, опираясь на трость. Но как же она могла оставить детей, лишить школу такого педагога. Кто же, если не она, Олимпиада Викторовна Овсянникова, которая взялась нести этот крест и донесет его. И вечером, лежа в кровати с главным спутником жизни, полосатым котом Тимофеем, таким же усталым и ветхим, как и она сама, Овсянка засыпала с улыбкой на лице, с твердой уверенностью, что посеяла сегодня очередную дозу разумного, доброго и вечного.
В кабинет Гриша зашел медленно, наверное, так же, как в Бастилии в камеру заходил галантерейщик Бонасье. Опустившись на стул, он молча протянул Овсянке руки на инспекцию.
К ноябрю у Гриши отмучилась наконец эта несчастная кукла из «Детского альбома» – которую, вообще-то, милый мой, Дима Фельдшеров у меня играл, когда ему еще не было шести