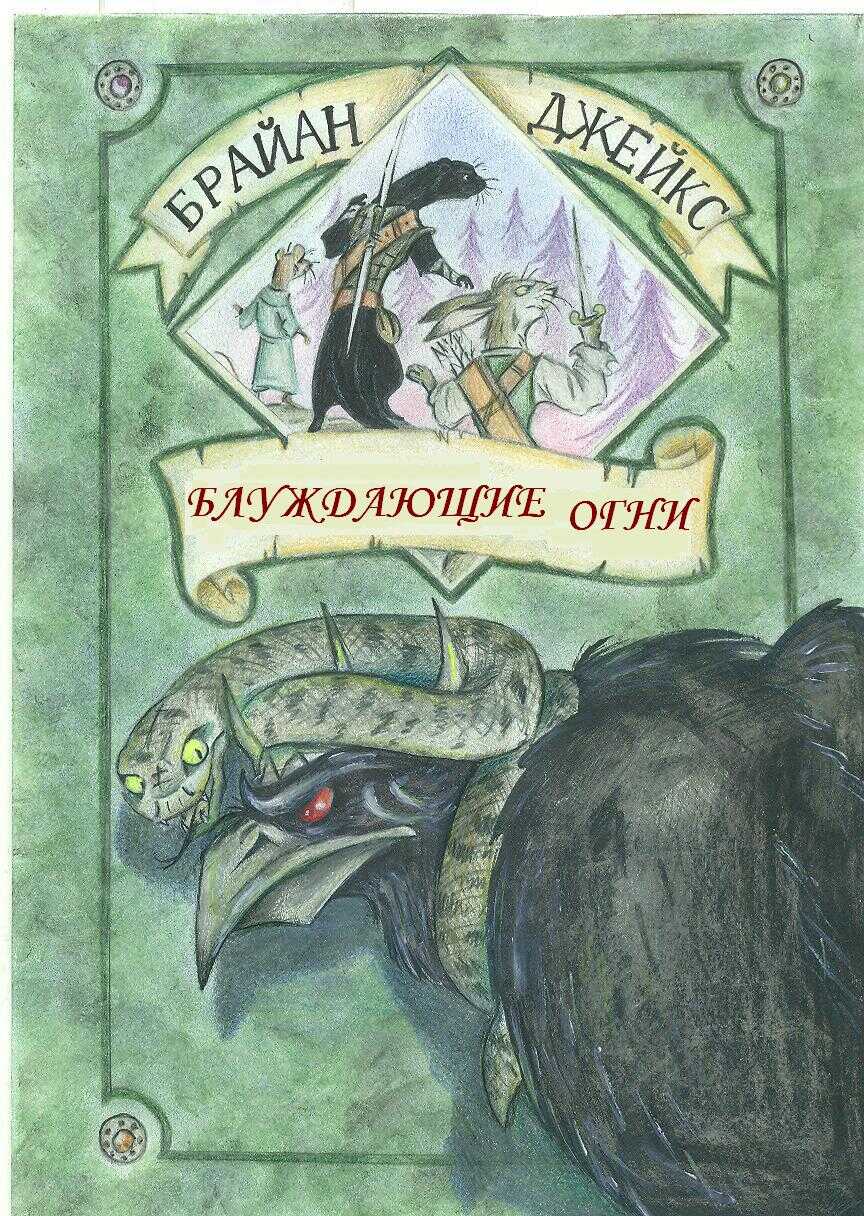так, чтобы в средних эскадронов дивизионов (2-м и 5-м) масть была светлее, чем в первых (Его Величества и 4-м) и последних (3-м и 6-м). В эскадрон Его Величества шли чисто караковые лошади, во 2-й – караковые белоногие, в 3-й – караковые со звездочкой, в 4-й – те, что не подошли в прочие, в 5-й – светло-караковые и в 6-й – караковые белоногие со звездочкой и отметиной. (Трубачи во всех эскадронах сидели на чисто караковых.)185
3-я Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича батарея лейб-гвардии Конной артиллерии (до 6 (19) марта 1913 г. – Гвардейской конно-артиллерийской бригады) – именовавшаяся в обиходе 3-й гвардейской конной батареей – пользовалась, по утверждению ее бывшего офицера Б.А. Лагодовского, «совершенно заслуженной репутацией из ряда вон выдающейся части»186.
По крайней мере, отчасти батарея была обязана этим тому обстоятельству, что «во всей российской Императорской гвардии и армии не было ни одной части, которая в смысле комплектования была бы поставлена в столь благоприятные условия». Ведь из всех новобранцев, прибывавших в «Варшавскую гвардию», 3-я гвардейская конная выбирала себе людей в первую очередь. Только после нее выбирали (чередуясь между собой каждый год) лейб-гвардии Уланский Его Величества и лейб-гвардии Гродненский гусарский полки, за ними – полки 3-й гвардейской пехотной дивизии и, в последнюю очередь, – батареи лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады…
В результате в 3-ю гвардейскую конную попадали «люди только грамотные, среднего [как во всей гвардейской конной артиллерии. – А.С.] роста, с не слишком короткими и не слишком длинными ногами (чтобы хорошо сидеть на лошади), брюнеты или темные шатены [это уже шло вразрез с правилом, по которому на цвет волос новобранцев в гвардейской конной артиллерии не обращали внимания. – А.С.], неженатые», «по преимуществу» зажиточные, «многоземельные крестьяне».
Большинство их было из южных губерний, «главным образом Киевской и Полтавской, отчасти Черниговской и Таврической, а также из иногородних Кубанской области», «но попадались и из Вятской, Самарской и Астраханской губерний». «Замечательно то обстоятельство, что несмотря на огромный процент малороссов, фейерверкеры [унтер-офицеры артиллерии. – А.С.] были почти исключительно великороссы»187.
Как уже отмечалось выше, у 3-й батареи лейб-гвардии Конной артиллерии были давние дружеские отношения с лейб-гвардии Уланским Его Величества полком.
Лошади в батарее были караковой масти188.
4-я кавалерийская дивизия (штаб – Белосток)
Входившая в состав VI армейского корпуса, она была дислоцирована на белорусско-польском пограничье, близ южной границы Восточной Пруссии.
Петровский 4-й драгунский Новотроицко-Екатеринославский Генерал-Фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк квартировал в Потемкинском Штабе – военном городке близ посада Граево у восточнопрусской границы.
4-й уланский Харьковский полк был размещен в казармах в 4 верстах от Белостока (четыре эскадрона), в расположенном поблизости же от Белостока селе Горобняны (один эскадрон) и в казармах на окраине Белостока (один эскадрон)189.
В обиходе полк именовали «желтыми уланами»190 (хотя уланских полков с желтым цветом приборного сукна – лацкана мундира, воротника или клапана на воротнике, верха шапки, околыша фуражки, кантов на мундире и фуражке, погон нижних чинов, просветов офицерских погон, подбоя эполет, шинельных петлиц – в русской армии было четыре).
Чины полка именовались в соответствии с общим правилом, по которому название служащего в полку образовывалось при помощи суффикса «ец», – не «харьковчанами» (как жители города Харьков), а «харьковцами».
4-й гусарский Мариупольский Генерал-Фельдмаршала Князя Витгенштейна полк стоял в Белостоке.
4-й Донской казачий Графа Платова полк был расквартирован в Щучине. Он комплектовался из казаков, проживавших в станицах 2-го Донского округа области Войска Донского191 – Иловлинской, Сиротинской, Трехостровянской, Качалинской, Голубинской, Пятиизбянской и Верхне-Чирской.
В стоявший в Белостоке 4-й конно-артиллерийский дивизион входили:
– 7-я конно-артиллерийская батарея и
– 8-я конно-артиллерийская батарея.
6-я кавалерийская дивизия (штаб – Варшава)
Районом дислокации этой дивизии (входившей в состав XV армейского корпуса) была северная часть Мазовии – примыкавшая к южной границе Восточной Пруссии.
6-й драгунский Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк стоял в Нижегородском Штабе – военном городке близ Остроленки.
Глуховцы считали своими «младшими братьями» чинов сформированного в 1896 г. 17-го гусарского (до 1907 г. – 51-го драгунского) Черниговского полка192. Ведь обе части были потомками старого, расформированного в 1833 г. Черниговского драгунского полка, но при этом в составе Глуховского имелись два эскадрона, когда-то состоявших в старом Черниговском полку, а в составе нового Черниговского – только один.
6-й уланский Волынский полк квартировал в Цеханове (ныне Цеханув).
6-й гусарский Клястицкий Генерала Кульнева, ныне Его Королевского Высочества Великого Герцога Гессенского Эрнста-Людвига полк – в Млаве.
Служащие в полку именовали себя «клястицами»193, но в остальной армии их именовали, по крайней мере, еще и «клястинцами»194.
6-й Донской казачий Генерала Краснощекова полк стоял в Прасныше. Он комплектовался из казаков станиц 2-го Донского округа области Войска Донского195 – Чернышевской, Верхне-Чирской, Кобылянской, Нижне-Чирской и Есауловской.
В стоявший в Цеханове (ныне Цеханув) 6-й конно-артиллерийский дивизион входили:
– 11-я конно-артиллерийская батарея (имевшая лошадей караковой масти196) и
– 12-я конно-артиллерийская батарея.
7-я кавалерийская дивизия (штаб – Владимир-Волынск)
Она входила в состав XIХ армейского корпуса и дислоцировалась на западной окраине Волыни и, отчасти, в прилегавшей к ней с запада Холмщине (Холмской Руси).
Служащие в стоявшем в волынском Ковеле 7-м драгунском Кинбурнском полку именовались «кинбурцами»197.
7-й уланский Ольвиопольский Короля Испанского Альфонса XIII полк стоял на Холмщине, в Грубешове (ныне Хрубешув).
Чины 7-го гусарского Белорусского Императора Александра I полка (квартировавшего во Владимир-Волынске) именовались в соответствии с общим правилом, по которому название служащего в полку образовывалось при помощи суффикса «ец», – «белорусцами».
В последние годы перед Первой мировой войной командиры белорусцев «сумели придать полку привлекающий к себе благородный облик»198.
В полку «очень гордились» тем, что их трубы – более высокого тона, чем во всех остальных частях русской армии199. При этом пожалованные белорусцам в 1829 г. георгиевские трубы – которые, будучи изготовлены из низкопробного серебра, «для игры не годились», – полк заменил такими же, но латунными, «скорее никелированными, чем посеребренными»200.
(Служивший в полку Г.М. Гринев писал, что георгиевские ленты там повязывались не только на серебряные георгиевские трубы эскадронных трубачей, но и на медные трубы полкового оркестра, тоже «по обычаю»201. Но он не знал, что в частях, награжденных георгиевскими трубами, это предписывалось делать официально202…)
Как и в 3-м гусарском Елисаветградском, в Белорусском полку нарушался приказ по Военному ведомству от 20 ноября (3 декабря) 1902 г., по которому трубаческие лошади в армейской кавалерии должны быть полковой масти (а не серые, как раньше). Белорусскому была присвоена вороная масть, но трубачи в нем (как и в Елисаветградском) продолжали сидеть на серых лошадях еще и в 1914-м203…
Полк связывала «стародавняя дружба» с 13-й конно-артиллерийской батареей – такая, что ее офицеры считались членами офицерского собрания Белорусского полка204.
В начале 1910-х такая же дружба завязалась у белорусских гусар и со вновь прибывшей во Владимир-Волынск 14-й конно-артиллерийской батареей. Ее офицеры были приняты в офицерское собрание Белорусского полка «на тех же основаниях», что и офицеры 13-й конной. А уже в августе 1914-го, в начале Галицийской битвы, дружба белорусцев и 14-й конной «скрепилась кровью, обильно пролитой 3-им эскадроном полка при выручке 14-й конной батареи, отбивавшейся картечью от наседавшего врага»205.
11-й Донской казачий Генерала от Кавалерии Графа Денисова полк также квартировал во Владимир-Волынске. Он комплектовался казаками, проживавшими в станицах Донецкого округа области Войска Донского206 – Милютинской, Калитвенской, Усть-Белокалитвенской и Еланской.
Во Владимир-Волынске стоял и 7-й конно-артиллерийский дивизион.
Его 13-я конно-артиллерийская батарея комплектовалась уроженцами малороссийских губерний207 и (как было только что отмечено) находилась в традиционных дружеских отношениях со стоявшим в том же Владимир-Волынске 7-м гусарским Белорусским полком. Офицеры 13-й конной не просто считались членами его офицерского собрания, но и имели в нем свои, традиционные для гвардейских и кавалерийских полков русской армии именные серебряные столовые приборы.
14-я конно-артиллерийская батарея к 1914 г. (как уже говорилось) также завязала дружбу с 7-м гусарским Белорусским полком, ее офицеры тоже считались членами офицерского собрания белорусцев – и тоже имели в нем свои именные серебряные столовые приборы208.
13-я кавалерийская дивизия