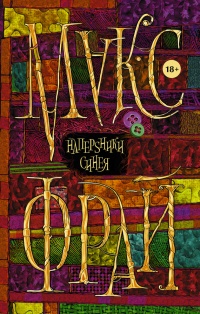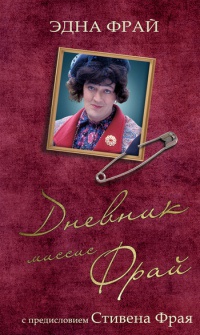Чтобы положить конец сердечным пристрастиям, носите на голове осиное гнездо.
(Я не настолько в отчаянии. Пока.)Но, увы, к такому я, наверное, все же оказываюсь не готова: я слышу звуки полового акта. Легко узнаваемые. Стоны, вздохи, нашептывание всяких непристойностей. Поэтому дверь никто не открыл? Голос с английским акцентом: «О боже, как хорошо-то. Офигеть, просто су-у-упер. Это лучше всякого наркотика, реально любого. Это лучше всего». И после этого долгие стоны.
Потом застонал более глубокий голос, вероятно, Гильермо. Они любовники! Разумеется. Какая же я дура! Англичанин – любовник Гильермо, а не потерянный в детстве сын. Хотя когда он фотографировал меня в церкви, он совсем не казался геем, да и во время вчерашней беседы за дверью тоже. Он так смотрел… Или я неправильно все трактовала? Или, может, он бисексуал? А почему у Гильермо творчество настолько выразительно гетеросексуальное?
И я не хочу никого осуждать, но не слишком ли он для него молод? Разница, наверное, в четверть века.
Мне уйти? Они как будто успокоились и теперь просто болтают. Я прислушиваюсь. Англичанин пытается убедить Гильермо пойти с ним вечером в какую-то сауну. Нет, точно геи. Это хорошо. Прекрасные новости, на самом-то деле. Значит, без труда справлюсь с бойкотом, даже после апельсинов.
Я начинаю старательно шуметь, топаю, несколько раз откашливаюсь, снова топаю, а потом выхожу из-за угла.
Передо мной сидят совершенно одетый Гильермо и такой же одетый англичанин, а между ними шахматная доска. Нет никаких свидетельств того, что они только что предавались страсти. У обоих в руках начатые пончики.
– Ума не занимать, да? – тут же говорит мне англичанин. – Хоть я и не знаю, кто ты такая, никогда бы не заподозрил тебя в таких ухищрениях. – Рукой без пончика он лезет в свою сумку, которая стоит рядом, и достает из нее тот самый апельсин. Он тут же оказывается в воздухе, потом у меня в руке, и лицо молодого человека раскалывается на пять миллионов кусочков счастья. – Ловко поймала, – комментирует он.
Потом победоносно кусает пончик и театрально стонет.
Ладно. Не геи. Не любовники, но, похоже, они оба любят пончики больше, чем всякий медведь. И что мне теперь делать? Кажется, что моя невидимая униформа при нем не работает. Как и отмоченное в уксусе зеркало, как и огарок свечи.
Я кладу апельсин к луковице и натягиваю шапку пониже.
Гильермо удивленно смотрит на меня:
– Значит, ты уже знакома с местным гуру? Оскар, как всегда, пытается меня просветлить. – Оскар. У него есть имя, и имя это Оскар, хотя мне и все равно, но очень нравится, как Гильермо его произносит: «Оскоре»! Он продолжает: – Каждый день у него что-то новенькое. Сегодня бикрам-йога. – А, ну и сауна. – Ты в курсе, что это такое? – спрашивает он.
– Я знаю, что это невероятное множество бактерий в одной пропитанной потом комнате, – отвечаю я.
Запрокинув голову, он начинает от души смеяться:
– Оскоре, она просто помешана на этих бактериях! Считает, что Фрида Кало меня убьет!
Я успокаиваюсь. Он меня успокаивает. Кто бы подумал, что Гильермо Гарсия, рок-звезда мира скульптуры, окажет на меня такое расслабляющее воздействие? Может, он та самая лужайка?
Оскар удивленно смотрит на Гильермо, потом на меня.
– А вы как познакомились? – интересуется он.
Я ставлю портфолио и рюкзак около раскладного стула, заваленного нераспечатанными письмами.