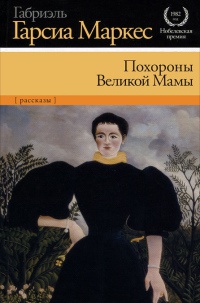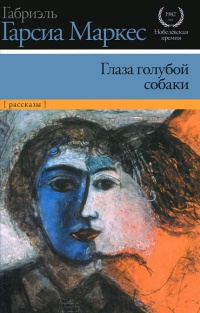Я не скучаю по этим городам, разлинованным, будто ученическая тетрадка в клетку и в линейку, – с пришпиленным канцелярскими кнопками душным небом, с ртутным столбом не ниже тридцати двух в тени.
Я не тоскую по ночным сиренам, ароматам подержанной мебели, чужим домам, темным подъездам.
По супермаркетам с дрожащей неоновой подсветкой и пирующими за ширмой крысами в человеческий рост.
По-прежнему грохот трамвая и чавканье нагретого асфальта. Стучат колеса, дребезжат окна.
Моя тоска проступает углами, топорщится. Об нее можно уколоть пальцы. Моя тоска сшита из безупречного материала. Ему сносу нет. Отличная мануфактура. В наследство досталась она мне. Плещется волной.
Все оттенки серого. Медленно раскатывается рулон, оставляя квадратные следы пыли.
Кондуктор не спешит. Медленно отрывает билет. Смотрит в упор, не отрывая глаз.
Зайцев он вычисляет издалека.
По особому, заячьему трепету, сгустку пугливой субстанции, облачку тревоги, запаху паленой шерсти, шороху боязливых лап.
Сквозняк
Ты там совсем изменилась, – печально констатировала мама, вглядываясь в мое побледневшее лицо, – раньше тебе хватало воздуха, – действительно, – возможно, раньше – о, это пресловутое «раньше»!
Возможно, раньше отсутствие его, этого самого воздуха, казалось нормой, – разве что в далеком и прекрасном детстве было его в избытке, – когда весь мир казался палисадником, а «деревья были большими»
Тогда еще далека была я от мысли о каком бы то ни было возвращении (организм мой выдерживал разве что недели две), да и то ограничивался милыми сердцу парковыми аллеями, центральными проспектами, добрыми улочками еще не изуродованного Подола и Андреевским спуском, еще не выкрашенным в веселый канареечный цвет.
Любой шаг в сторону казался провалом именно в тот самый кошмар, – допустим, рядовая поездка на дребезжащем трамвайчике до, скажем, Ленинградской площади, граничила с психическим расстройством, – а посещение бюрократического заведения – от помпезного здания МИДА до районной поликлиники, коридоры которой были темны и страшны и казались дорогой туда, откуда не возвращаются.
Мне катастрофически не хватало света и воздуха, воздуха и света.
Я изменилась, а как же, – ведь меняются все, и для этого вовсе необязательно уезжать далеко, – меняются здесь и там, меняются города, страны, народы, – они не узнают нас, а мы – их, куда-то исчезают дома и целые улицы, и вот уже идешь ты по городу, которому ты – никто.
Вот так, как будто внезапно прозрев, находишь себя в аллее, ведущей в музыкальную школу, – как будто не бывало этих лет, и вот я вновь плетусь туда, где унылые экзерсисы и прыгающие нотные значки, прихрамывающие гаммы и ужас публичных выступлений, – с холодеющими ладонями, провалами памяти и добрым старым Иоганном, выволакивающим тебя за шкирку из-за пыльных портьер.
Я вновь там, – хватаюсь за спасительный доминантсептаккорд, я жажду разрешения, ощупываю ускользающие клавиши, – чуть желтоватый ряд выступающих зубов, – вот воинственный клык, а вот – мощный коренной, а вот – трогательно скошенные, точно у зайца, передние.
Я вновь там, окруженная портретами классиков, – посреди темной залы, – взирают на меня Мусоргский, Глинка и Римский, конечно же, Корсаков, – и половецкие пляски вперемежку с прелюдиями Баха и полонезом, и тоненький плач юродивого толкает в спину, выталкивает за пределы спасительного, наполненного горестями, страхами и смешными заботами детства, – я вновь там, уныло плетусь по аллее, размахивая нотной папкой, оттягивая момент школьной муки с растянутыми до неприличия октавами и ударами метронома, – вот эти полчаса дороги – от трамвая к трехэтажному кирпичному зданию – целых полчаса свободы и воздуха, – как отчаянно не хватает его сейчас, – его все меньше и меньше, – я ускоряю шаг, и вот уже аллея позади, – вместе с разбитым асфальтом, чернеющими домами вокруг, выросшими на месте деревьев подземными переходами, ведущими в никуда, – по все тем же неровным плитам, к пустеющим дворам и когда-то прекрасно-уродливым новостройкам.