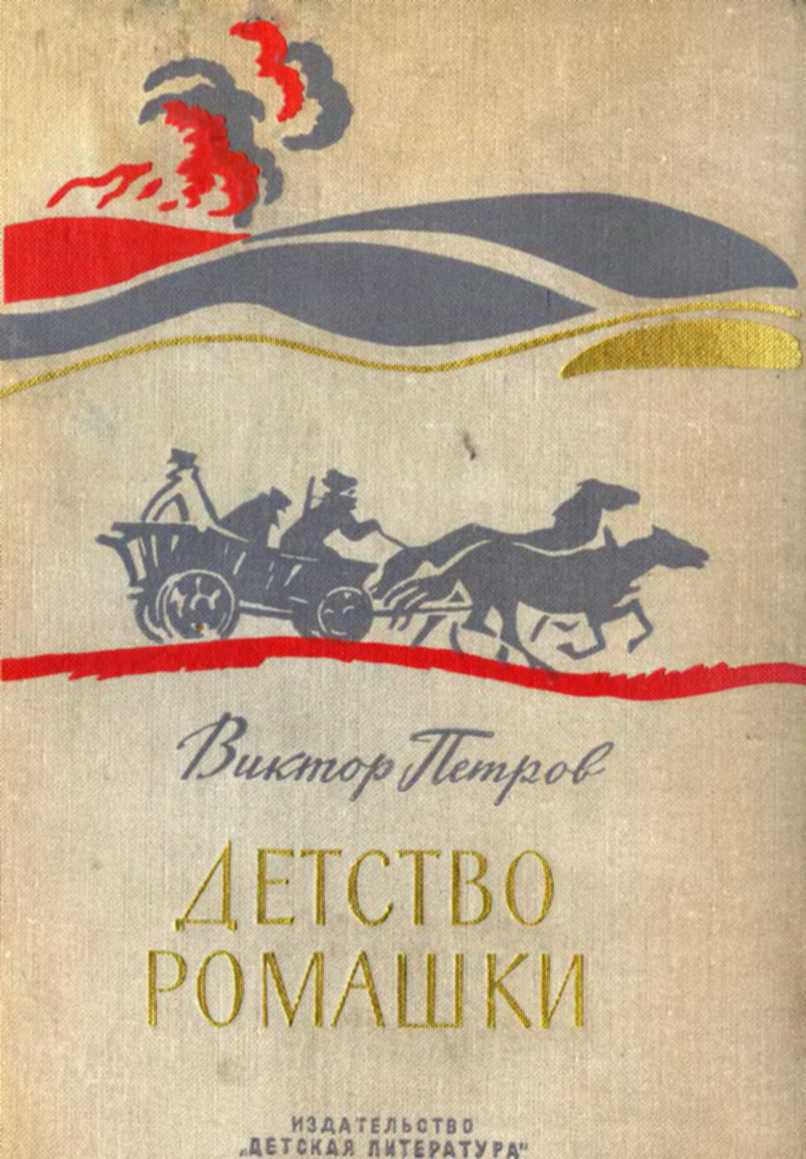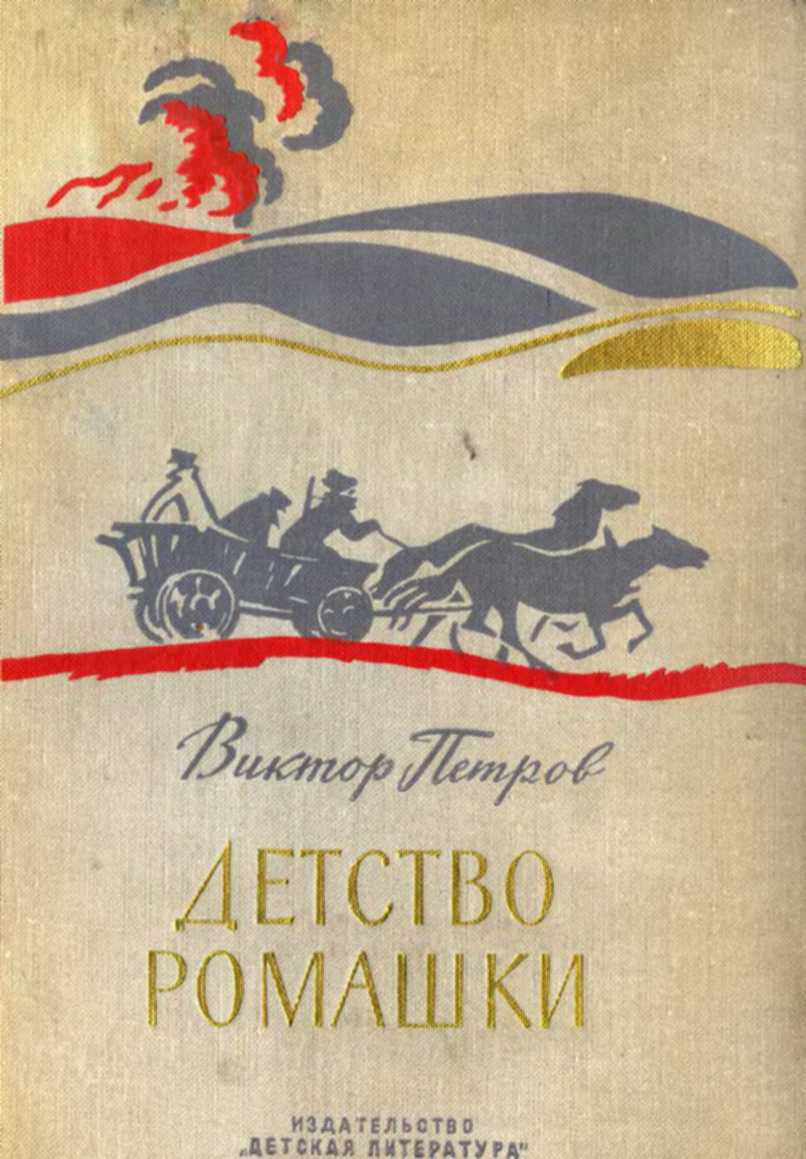спина была исполосована шрамами. И кожа, и плоть однажды были изорваны в клочья.
– Это немцы? – спросила я и тоже села.
– Немцы, – подтвердил Амос и снова надел рубашку.
Я не знала, уместно ли расспрашивать, но Амос заговорил сам:
– Два года назад меня поймали на контрабанде. Требовали назвать сообщников.
В тусклом лунном свете мне почудилось, что на глаза Амоса навернулись слезы.
– И я… я выдал своих друзей, – пробормотал он, и тут уж я ясно увидела, как по его щекам заструились слезы.
Значит, это были не просто сообщники – это были друзья. Что тут скажешь в утешение?
– Всех четверых расстреляли. – Он попытался сделать вдох, но вина сдавила ему горло. Он вытер слезы рукавом. И вгляделся в мое лицо, пытаясь угадать, буду ли я теперь презирать его так же сильно, как он самого себя. Под беззаботным фасадом – теперь я это видела – гнездилась огромная ненависть к себе.
Но какой нормальный человек, увидев шрамы на его спине, взялся бы его судить? У кого хватило бы силы воли выдержать такие побои? Разве что у Мордехая Анелевича. Может быть, еще у одного-двух самых мужественных подпольщиков. Но обычные люди такой пытки не вынесли бы. Я-то уж точно. Я после одной-единственной оплеухи, которую влепил мне жиробас в караулке, уже разревелась.
– Я… я никому об этом не рассказывал, – еле слышно пробормотал Амос. Кажется, собственная откровенность стала для него неожиданностью.
– Даже Эсфири? – удивилась я.
– Даже Эсфири.
Слишком боялся, что она будет его презирать.
– Почему же… почему же тогда мне рассказал? – спросила я.
– Ну а как же, – ответил он и на этот раз сумел придать вымученной ухмылке кое-какое сходство с настоящей. – Ты же моя жена!
Я протянула ему руку с обручальным кольцом. В знак того, что я его не осуждаю.
Больше мы ни о чем не говорили. Амос и так совершил нечеловеческое душевное усилие, рассказав о себе так много, как никогда раньше. Он нырнул под одеяло, и я тоже.
Какое-то время царила тишина. Потом я окликнула осторожно:
– Амос?
– Да?
– Жизни твоих друзей на совести немцев. Не на твоей.
– Если бы, – тихо ответил он. – Ох, если бы…
Его это не убедило. Я коснулась его руки, и он не стал ее отдергивать. Мы лежали и держались за руки, как пожилые супруги. Или как маленькие дети. Две израненные души, дающие опору друг другу. Так мы и заснули.
Этой ночью кошмары меня не мучили. И Зеркальщик не являлся.
50
Иванский сдержал слово. Вместе с единомышленниками из числа польских подпольщиков он переправил в гетто ящик с оружием, воспользовавшись запутанной канализационной сетью, пробраться через которую можно было только с хорошим проводником. На той стороне одна женщина упросила его взять с собой двух маленьких дочек, и хотя ему пришлось нелегко – передвигаться по вонючей клоаке можно было, только пригнувшись, а малышек приходилось нести на руках, чтобы они не захлебнулись там, где вода стояла высоко, – Иванский вывел девочек и спрятал их у себя дома, поручив заботам жены.
После того как капитан все это поведал нам за столом, Амос спросил:
– И как оно там, в канализации?
– Дерьмово. В самом прямом смысле слова, – сухо ответил капитан.
– Да уж, запашок тот еще! – хохотнул Амос.
Действительно, от капитана до сих пор пованивало клоакой, хотя он успел принять ванну и облачиться в свежую одежду.
– Спасибо за комплимент, – ухмыльнулся в ответ Иванский и, встав из-за стола, пообещал на прощание: – Я раздобуду еще оружие.
Мы от души поблагодарили его. Я даже хотела обнять его, но постеснялась, подумав, что это будет слишком фамильярно. Когда капитан ушел, Амос озвучил то, о чем я тоже думала, – только он выразился грубее:
– Хорошо, что есть поляки, которые ради нас готовы вмазаться в говно.
– Как думаешь, сколько времени мы продержимся против немцев? Если оружие, которое достал Иванский, прибавить к тому, которое у нас уже есть…
Амос посерьезнел:
– Если повезет, то пару часов.
Лучше бы я не спрашивала.
– Как мы ни стараемся, все пшик, – удрученно проговорила я.
– Вовсе нет, – возразил Амос. – Ты вспомни, как люди подняли головы, когда в январе мы атаковали немцев. Если мы развяжем против немцев войну, нами будут гордиться целые поколения евреев. Так же, как теми героями, которые две тысячи лет назад обороняли Масаду. И неважно, сколько мы продержимся. День, месяц или несколько часов. Главное – мы не пойдем покорно на убой!
Но его речь меня не очень ободрила. Я отозвалась уныло:
– Если после нас еще останутся эти самые поколения евреев…
Амос ласково коснулся рукой моей щеки. Приятное ощущение. И сказал:
– Останутся, а как же.
Я улыбнулась: несмотря ни на что, слышать это было радостно.
– Мира, а тебе кто-нибудь говорил, какая ты красивая, когда улыбаешься?
Это был не фальшивый комплимент, сделанный просто так, чтобы поднять мне настроение. С тех пор как Амос открыл мне свою тайну, его манера держаться изменилась. С одной стороны – он стал серьезнее, чем раньше, с другой – показывал больше эмоций. Он поверил, что один на один со мной ему не нужно ничего из себя строить.
– Нет, никто и никогда, – честно ответила я. Даже от Даниэля я такого не слышала – он вообще на комплименты был скуп. Что он во мне нашел, что разглядел? Мы никогда этого не обсуждали. Сущие дети были. С детской любовью, которая вся сводилась к поцелуйчикам.
За минувшее время я стала совсем другим человеком. Повзрослела, и взросление получилось горьким.
И в том невероятном случае, если Даниэль окажется жив, он тоже, несомненно, будет совсем другим. Если повезет, он перестанет меня ненавидеть, но любить друг друга мы точно уже не сможем.
– Если тебе никто этого не говорил, – весело произнес Амос, – то все твои знакомые либо слепые, либо немые, либо идиоты.
Я захохотала. Как приятно ощущать его руку на своей щеке!..
– Мне с тобой так хорошо, – сказала я быстрее, чем успела подумать.
– И мне с тобой, – искренне ответил он.
Мы посмотрели друг другу в глаза. И поцеловались. Совсем не так, как в тот первый раз. По-настоящему. Более нежно. И более страстно. Когда наши губы распались, мы оба дрожали. На второй поцелуй мы не решились – так были взбудоражены. Отодвинулись друг от дружки и, не говоря ни слова, стали укладываться спать.
Мы лежали, крепко держась за руки, когда Амос позвал осторожно:
– Мира?
– Да?
– Мне… мне хочется еще раз тебя поцеловать.
И тут пришла моя очередь сказать:
– И мне тебя.
51
В эту ночь мы не были близки, да и в последующие тоже. Странным образом у нас было волшебное чувство, будто нашу любовь хранит само небо и в распоряжении у нас целая вечность, хотя все говорило об обратном. Никогда еще я не была так счастлива, как в эти дни, когда мы держали связь с поляками из окружения Иванского. Кошмары на время оставили меня в покое – а может, и навсегда? Я даже решилась вновь наведаться на 777 островов.
«Длинноухий» мягко покачивался на волнах в лучах яркого солнца, а на борту был праздник с музыкой и танцами – ох и любят же в этом мире повеселиться! Иные матросы пели настолько плохо, что от корабля даже дельфины шарахались, – зато от души!
Мы с Ханной танцевали на палубе под аккордеон, на котором играл Оборотень. Она спросила:
– Где ты пропадала столько времени?
– Да так… дома была, – уклончиво ответила я.
– Как там, в гетто? – с волнением спросила Ханна. – Что-нибудь изменилось?
Что я могла на это ответить? Что мама мертва? Что она сама тоже мертва?
Она имела право все это знать, но у меня не хватало духу сказать ей правду. Так что я ответила:
– Сложно объяснить… Я тебе как-нибудь все расскажу, но не сейчас.
– А когда? – недоверчиво спросила она.
– Когда… – Я судорожно искала отговорку. – Когда мы одолеем Зеркальщика.
– Так это уже недолго ждать! – обрадовалась Ханна. – Ведь мы добыли у Песочного человека третье волшебное зеркало и держим курс на Зеркальный остров.
Я нервно сглотнула, но постаралась отогнать все мысли о монстре и о своей неискупимой вине перед Ханной – вине, которая сводилась к тому, что я не погибла вместе с ней. И снова пустилась с ней в пляс по палубе. Как хорошо! Наконец-то кругом мир и радость! И на 777 островах, и в нашей маленькой квартирке.
Но вскоре мы узнали, что немцы перебрасывают в Варшаву новые силы.
52
– Я намерен вернуться в гетто, – озвучил Амос за ужином то, чего я давно опасалась. – Если сражение начнется, я хочу быть рядом с товарищами.
– Но кто-то же должен поддерживать связь с польским Сопротивлением, – возразила я.
Если мы останемся на польской стороне, подумала я про себя, нас не убьют. По крайней мере, не сразу. Я боялась не за свою жизнь, хотя в последнее время в ней вновь появился смысл. Я страшилась за Амоса: потерять еще одного человека, которого я люблю, выше моих сил.
– Ты можешь остаться, – ответил Амос, и его глаза сердито сверкнули.
Я была задета. И в то же время пристыжена.