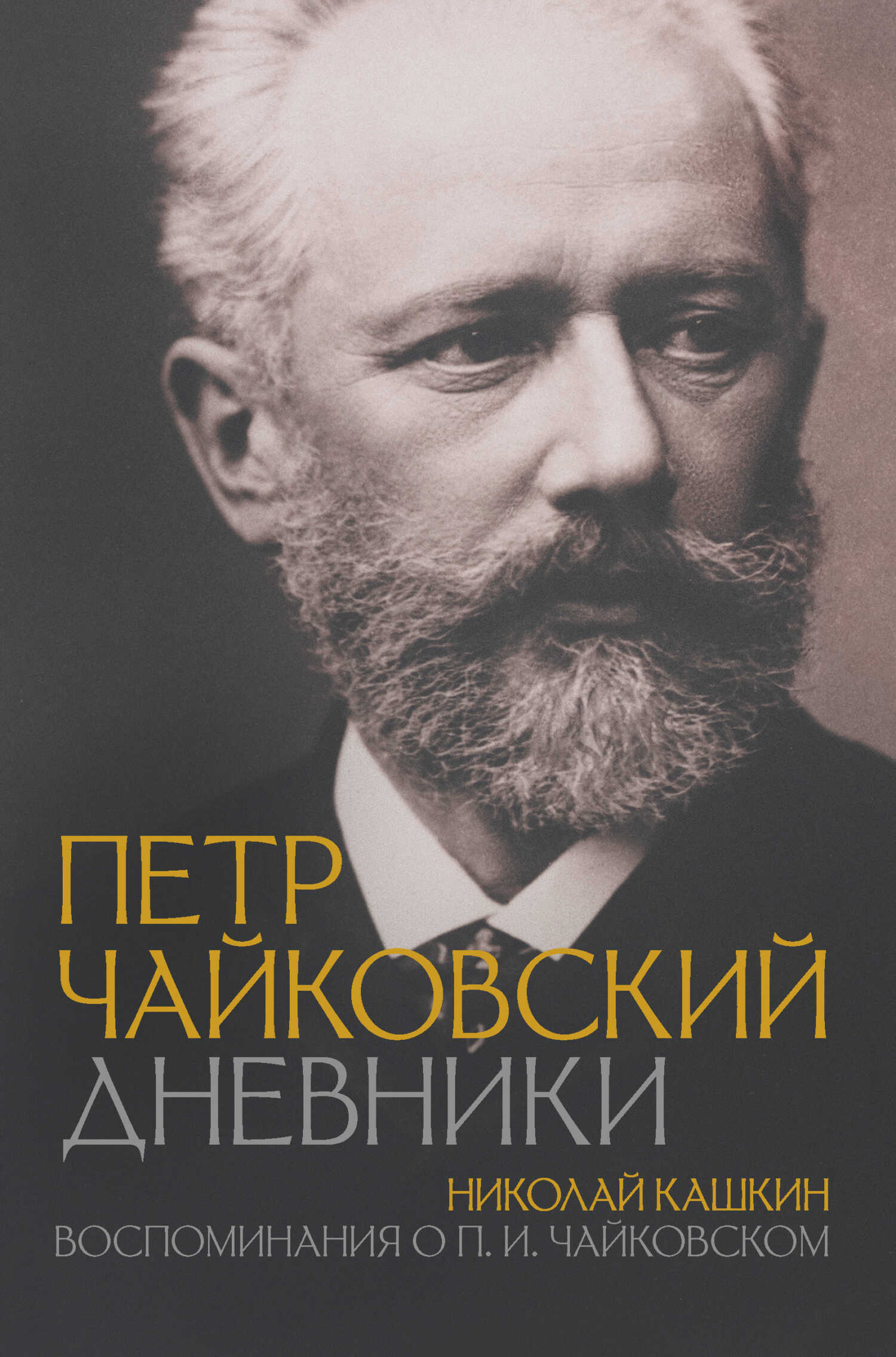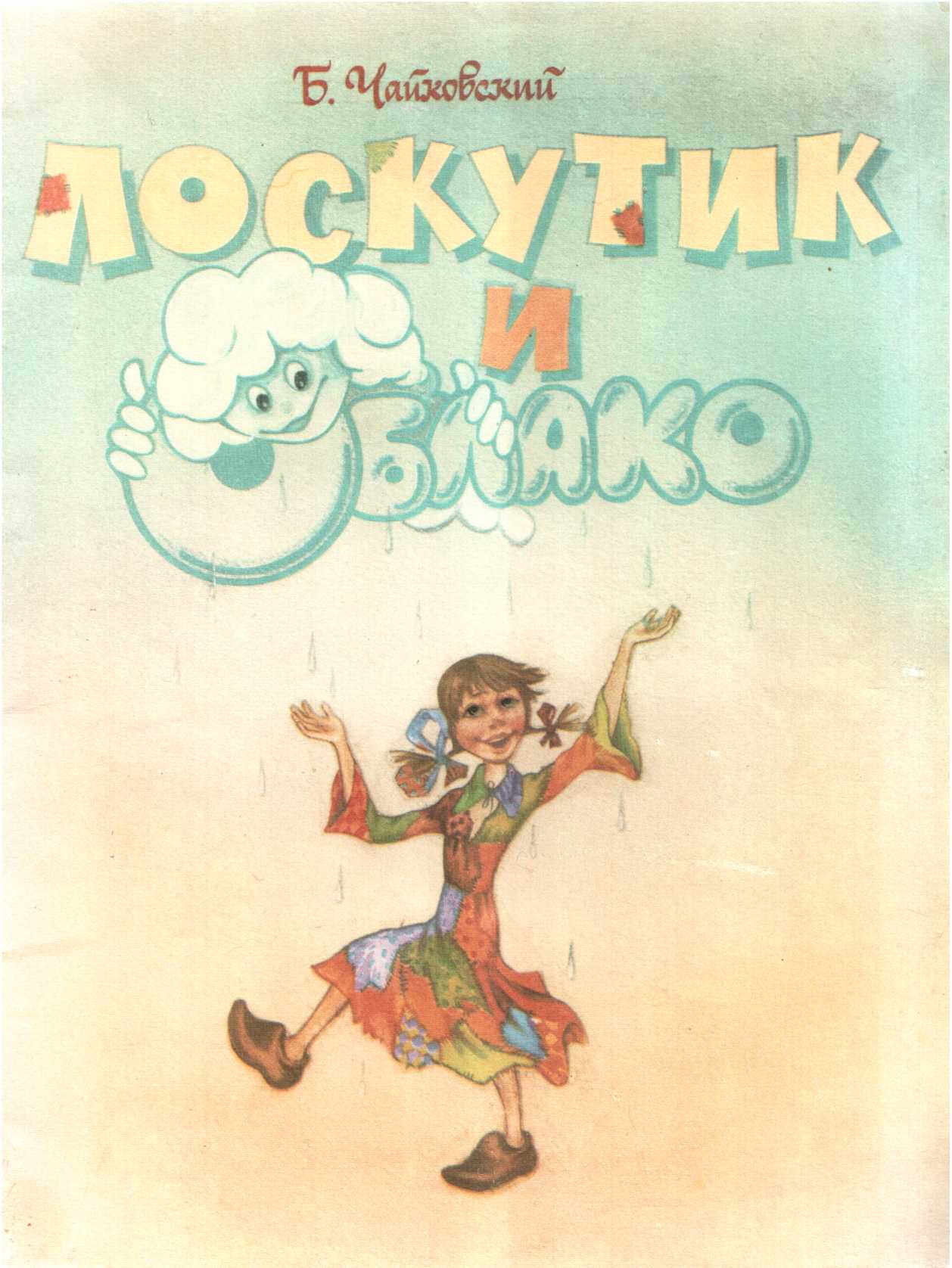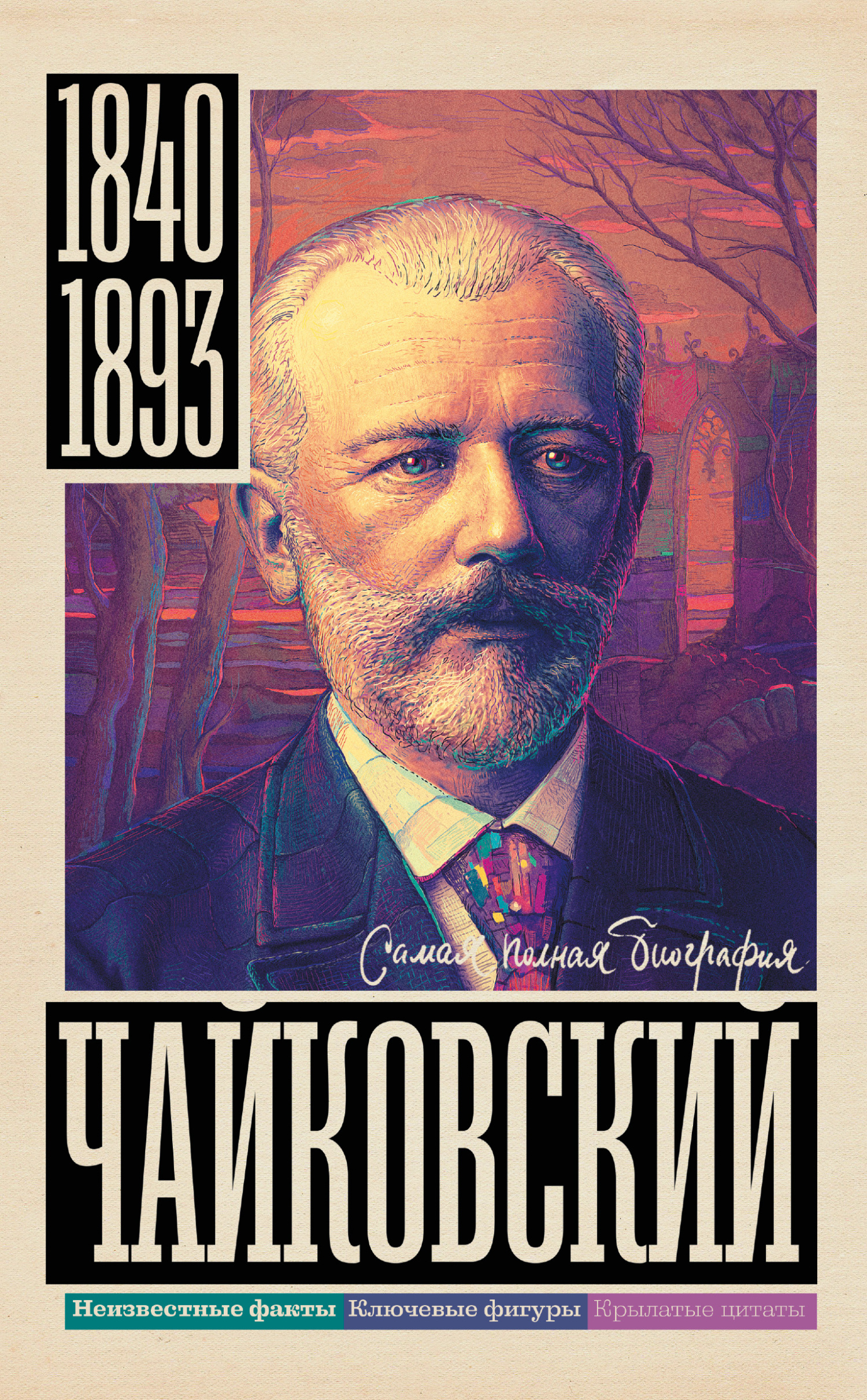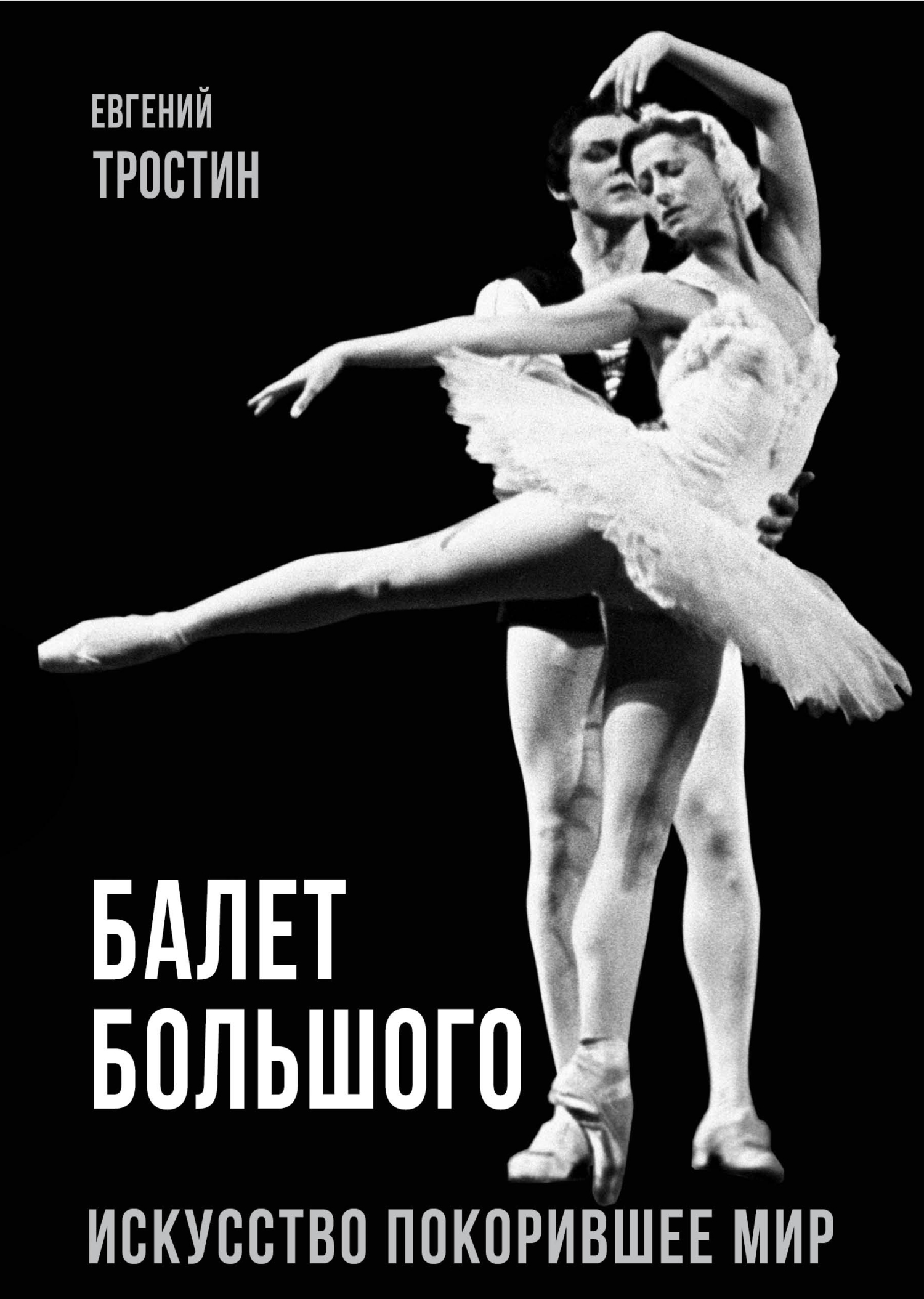с семьей Конради, особенно с Колей, которого Петр Ильич искренне любил. А. И. Брюлловой Петр Ильич посвятил пьесу для фортепиано «Echo rustique» («Сельский отзвук»)
Игорь Стравинский. Смерть Чайковского потрясла меня…
Это был самый волнующий вечер в моей жизни, вдобавок все получилось совершенно неожиданно, так как у меня вовсе не было надежды пойти на спектакль; одиннадцатилетние дети редко посещали вечерние зрелища. Однако юбилейный спектакль «Руслана» был объявлен народным праздником, и мой отец, наверное, счел этот случай важным для моего воспитания. Непосредственно перёд временем отправления в театр в мою комнату ворвалась Берта, крича: «Скорее, скорее, нас тоже берут с собой». Я быстро оделся и влез в экипаж, где уселся рядом с матерью. Помню, в тот вечер Мариинский театр был роскошно декорирован, все кругом благоухало, и даже сейчас я мог бы найти свое место – в самом деле, моя память откликается на это событие с той же быстротой, с какой металлические опилки притягиваются магнитом. Спектаклю предшествовала торжественная часть; бедный Глинка, своего рода русский Россини, был обетховенизирован и превращен в национальный монумент. Я смотрел на сцену в перламутровый бинокль матери. В первом антракте мы вышли из ложи в небольшое фойе позади лож. Там уже прогуливалось несколько человек. Вдруг моя мать сказала: «Игорь, смотри, вон там Чайковский». Я взглянул и увидел седовласого мужчину, широкоплечего и плотного, и этот образ запечатлелся в моей памяти на всю жизнь.
После спектакля у нас дома был устроен вечер; по этому случаю бюст Глинки, стоявший на постаменте в кабинете отца, обвили гирляндой и окружили зажженными свечами. Помню также, что пили водку и провозглашали тосты: был большой ужин.
Смерть Чайковского, последовавшая через две недели, глубоко потрясла меня. Кстати, слава композитора была так велика, что когда сделалось известно, что он заболел холерой, правительство стало выпускать ежедневные бюллетени о его здоровье. (Однако знали его не все. Когда я пришел в школу и, пораженный ужасом, сообщил своим одноклассникам о смерти Чайковского, кто-то из них пожелал узнать, из какого он класса.)
Помню два концерта в память Чайковского: один в консерватории под руководством Римского-Корсакова (у меня все еще хранится билет на этот концерт), другой в зале Дворянского собрания под управлением Направника – в его программу входила Патетическая симфония, а на титульном листе программы был портрет композитора в траурной рамке.
Иван Липаев. Из воспоминаний артиста-музыканта
В большой зале московского Благородного собрания 27 января 1891 года шла репетиция к симфоническому концерту Э. Колонна. Было девять часов утра. В громадные окна пробивался серенький свет запоздалого зимнего утра, будто боролся с ярким пламенем свечей пюпитров, и причудливыми бликами скользил по массивным белым коринфским колоннам. Игра света и еще тонувшие в утреннем полумраке ряды колонн, то замирающие, то яростные звуки симфонической поэмы «Буря» Чайковского и напряженные лица оркестровых артистов, увлеченных своим тяжелым трудом, – все это отдавало чем-то необычным, фантастическим. Возле меня раздались осторожные шаги, и человек, одетый весьма просто, но со вкусом, точно тень, прислонился к мрамору колонны. Это был сам творец «Бури» П. И. Чайковский. Должно быть, по привычке, он провел правой рукой по серебристым волосам и, мельком бросив взгляд в мою сторону, пристально устремил его в направлении оркестра. Там было неладно. Один за другим артисты привставали, о чем-то шептались и не слушали дирижера, нетерпеливо стучавшего палочкой по пюпитру. Но вдруг все оживилось и в зале раздалась оглушительная фанфара духовых и струнных инструментов. Казалось, вот-вот массивные, крепкие колонны не выдержат бурного разгула звуков, потолок треснет и все погибнет так же дружно, как дружно заиграли артисты приветствие Петру Ильичу Чайковскому. Он смущенно начал раскланиваться издали, но, слыша этот настойчивый горячий привет, застенчиво направился к эстраде. По тому, как радушно композитор пожимал руки оркестрантам, как он ласково улыбался им, и по тому, как при виде Чайковского сияли их лица, безошибочно можно было сказать, что отношение творца-художника к своим воспроизводителям было самое теплое и искреннее.
До этого дня я не был знаком близко с великим музыкантом. Правда, при встрече мы раскланивались, пожимали друг другу руки, обменивались общими и короткими фразами. Однако все это носило лишь случайный, шапочный характер знакомства. Но вот в весну 1892 года в Москву приехало оперное киевское товарищество И. П. Прянишникова. Этому товариществу, явившемуся с намерением ставить здесь русские оперы, Чайковский сочувствовал сильно. Это доказал он тем, что согласился охотно и безвозмездно дирижировать тремя операми: своим «Евгением Онегиным», «Демоном» А. Рубинштейна и «Фаустом» Гуно. В то время я участвовал в оркестре товарищества. Отсюда, собственно, и началось мое знакомство с Чайковским. Однажды, во время представления «Князя Игоря» Бородина, ко мне подошел постоянный дирижер товарищества г. Прибик. Он взял меня под руку и повел в театральную контору. Чайковский стоял среди комнаты и, разговаривая с В. Серовой, жадно курил папиросу. При нашем появлении В. Серова вышла в соседнюю комнату. Чайковский с удивлением взглянул на меня, потом на г. Прибика и, рассмеявшись, сказал:
– Иосиф Вячеславович! да мы давно с ним знакомы, давно…
После этого г. Прибик ушел, а я с глазу на глаз остался с Чайковским. Он быстро докурил папиросу, вынул вторую и еще одну предложил мне.
– У меня до вас дело, и очень важное, – сказал он. – Здесь нет времени, да и неудобно говорить. Будьте добры, зайдите ко мне запросто, только утром, часов в восемь или того раньше; я уж на ногах.
Прошло несколько дней, и мне не удалось быть у Петра Ильича, потому что репетировали «Евгения Онегина» и автор его уставал порядочно. На одной из репетиций Чайковский подошел ко мне очень взволнованный. Оказалось, что причиной тому были самые простые остановки, удлинявшие репетицию до позднего часа.
– Неужели всегда так? – озабоченно спросил он меня.
– Вашу оперу, – отвечал я, – и знают хорошо, да и порядки в труппе образцовые, а бывает и хуже.
– Да, но каково же оркестру все время сидеть и разучивать с певцами?! – заметил он.
Кстати сказать, что Чайковский, по своей нервности, на одном месте сидеть не любил: он стоял не только на репетиции, но и во время спектакля, когда дирижировал, а в квартире или расхаживал из угла в угол, или старался возможно чаще менять положение тела на стуле.
Во время дирижирования оперой, не только своей, но и других авторов, он волновался чрезмерно. Малейший промах на сцене или в оркестре отзывался в нем болью. В