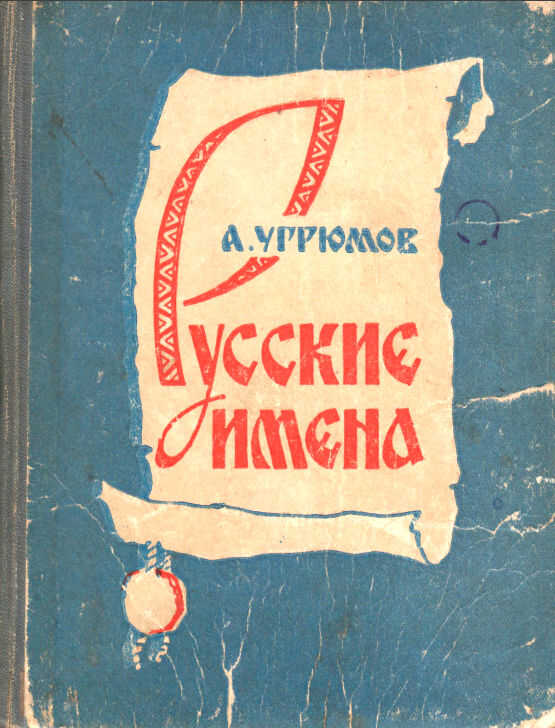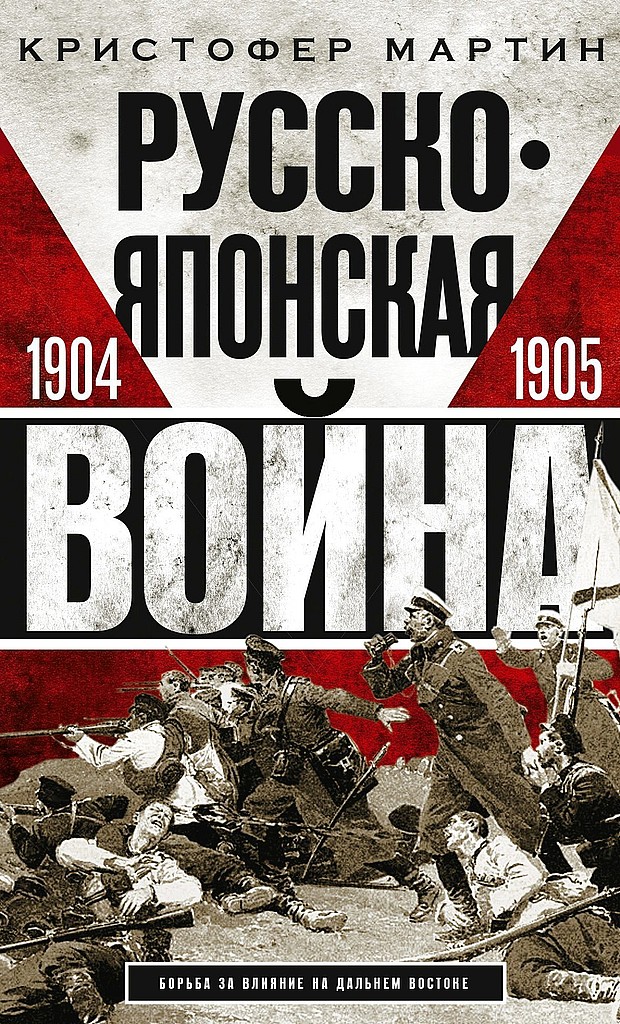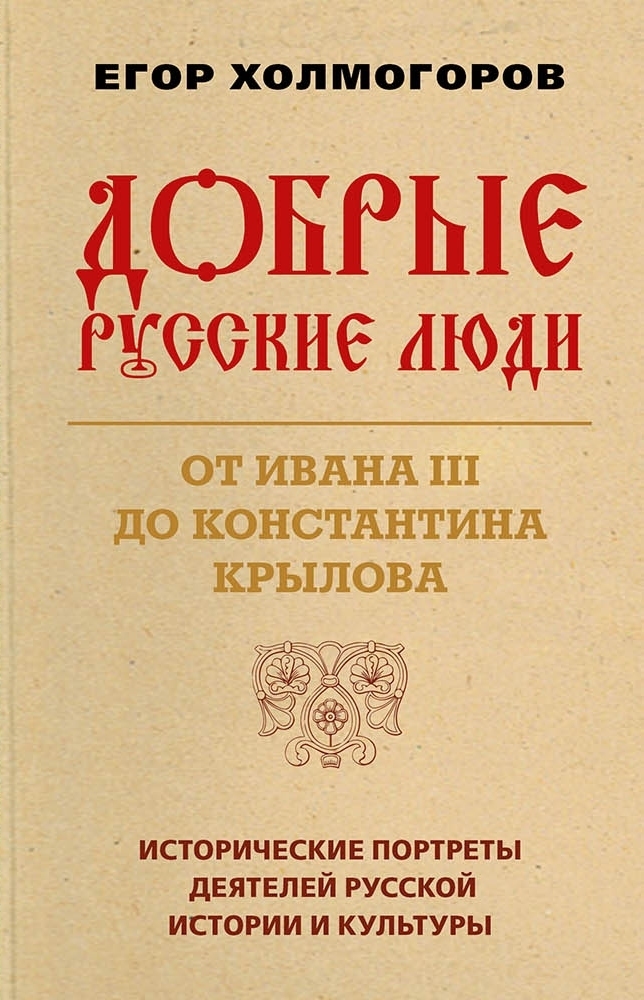этого упрека, укажем только на важные причины недостатка практических стрельб: берегли снаряды для боя, даже учебные. Пополнить боезапас эскадры мог транспорт «Иртыш», который должен был доставить на Мадагаскар второй артиллерийский боекомплект, но этого не случилось. Боекомплект еще в Либаве был выгружен с «Иртыша» и отправлен во Владивосток по железной дороге. При этом надо иметь ввиду, что учебные стрельбы расшатывают орудия, расстреливают их, снижают точность попадания, и в идеале требуется замена их перед боем. Но откуда же взять новые орудия на походе? Поэтому стволы берегли.
Оценивая действия Рожественского, не будем касаться «военного таланта», возможно, адмиралы Дубасов и Чухнин справились бы с боевыми задачами лучше. Поражает другое – отсутствие серьезной подготовки к линейному бою. По выводам исторической комиссии, у командующего «трудно найти хотя бы одно правильное решение». А их, посуществу, и не было. В преддверии сражения и в ходе его он отдал всего три приказа: знаменитый «курс норд-ост 23°», приказ на перестроение двух кильватерных колонн в одну и, уже жестоко раненный, передал командование адмиралу Небогатову. Ни один из них кардинально не решал задачи преобладания над противником, а вот скорость маневрирования эскадры, являющуюся чуть ли не главным залогом успеха в морском бою, увеличить следовало, отослав тихоходные транспорты в нейтральные порты. Понимал ли это адмирал Рожественский? Безусловно. Он понимал еще и то, что при эскадре оставались и старые корабли-тихоходы, и броненосцы береговой обороны, тоже не «рысаки». Остается предположить, что он надеялся на большой калибр их орудий, которые по количеству таких же несколько превосходили японскую эскадру.
Цусимский разгром объясняют разными причинами в основном технического характера: снаряды плохие, а у японцев, наоборот, эффективные; артиллерийская подготовка неважная, у японцев же прекрасная; морально и физически устаревшее большое число русских кораблей; наконец, существенное преимущество японцев по скорости маневрирования. И редко кто из исследователей вспоминает о психологическом факторе. Нет, не об экипажах кораблей идет речь – о самом командующем.
З. П. Рожественский в Сасебо
Приходится признать, что к концу похода его железная воля сдала. И нервы подводили – слабая черта адмирала. Это отметил еще начальник Практической броненосной эскадры Балтийского моря адмирал Григорий Иванович Бутаков, у которого Рожественский был флаг-офицером летом 1875 года: «Ужасно нервный человек, а бравый и очень хороший моряк…» Нервы и воля – все «осталось за кормой». И это не удивительно после известий о разгроме 1-й Тихоокеанской эскадры, нежелания Петербурга отозвать 2-ю эскадру с Мадагаскара или хотя бы заменить Рожественского другим командующим (он сам просил заменить его вице-адмиралом Г. П. Чухниным), а также после объективной оценки сил японской и русской эскадр. Рожественский впал в апатию, вел эскадру, слепо подчиняясь приказу из Петербурга, понимая, что поражение неизбежно, и надеясь разве что на природные факторы вроде тумана. Какое уж тут «военное искусство»! Иначе действия Зиновия Петровича в Цусиме не объяснить.
Как остался жив адмирал Рожественский, непонятно. Тяжелое ранение в голову, лишившее его возможности управлять эскадрой, ранение в спину и два ранения в ноги. Неоднократно он терял сознание и на «Князе Суворове», и на миноносцах «Буйный» и «Бедовый». Но, видимо, возродилась воля к жизни у железного адмирала – в Сасебо он более или менее пришел в себя. Тогда его и навестил победитель – адмирал Хейхатиро Того, воздавая должное русским морякам и, конечно, их командующему.
Адмирал Того посещает З. П. Рожественского в госпитале Сасебо
Определенным утешением Рожественскому стала телеграмма императора Николая II в ответ на его донесение: «От души благодарю вас и всех тех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную службу России и Мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом, но беззаветным мужеством вашим Отечество всегда будет гордиться». Такая же телеграмма была послана контр-адмиралу Энквисту в Манилу и капитану 2 ранга Чагину во Владивосток.
Нельзя не отметить верного и постоянного спутника адмирала Рожественского – Петра Гавриловича Пучкова, его вестового, также оказавшегося в Сасебо. Когда Рожественский принял 2-ю Тихоокеанскую эскадру, ему был назначен другой вестовой, но адмирал, раздраженный его бестолковостью, вызвал в Ревель своего старого слугу, который прошел с адмиралом весь путь от Либавы до Сасебо, терпя его нелегкий характер.
Вестовой Рожественского П. Г. Пучков (фото 1939 г.)
При возвращении Рожественского в Россию случилось никак неожидаемое: на протяжении всего Сибирского железнодорожного пути многие его встречали с восторгом, видели в нем такого же матроса, разделившего с ними весь ужас сражения. Но тем не менее в Петербурге 21 июня 1906 года по представлению морского министра вице-адмирала А. А. Бирилева, собиравшего эскадру в путь, начались заседания особого присутствия военно-морского суда Кронштадтского порта по делу о сдаче неприятелю миноносца «Бедовый» и, стало быть, самого адмирала. На суде Зиновий Петрович присутствовал как отставной вице-адмирал (он подал в отставку, как только узнал о назначении суда).
На суде Зиновий Петрович отказался от защиты и признал себя единственным виновным в том, что «не отдал никаких распоряжений в предупреждение сдачи упомянутого миноносца». Суд оправдал адмирала, установив из показаний других обвиняемых, что он не принимал непосредственного участия в сдаче противнику миноносца, будучи тяжело раненным и на момент сдачи находившегося в бессознательном состоянии. Возможно, это не совсем так, ибо известно, что он сказал чинам штаба еще на «Буйном»: «Ведите себя так, будто бы меня нет на миноносце», понимая, что за этим может последовать. Как бы там ни было, но решение суда было окончательным и не оспаривалось.
Суд по делу о сдаче миноносца «Бедовый». З. П. Рожественский дает показания (стоит справа)
В письме к К. Н. Макаровой, вдове вице-адмирала С. О. Макарова, от 27 июня 1906 года Рожественский писал: «…Вы можете мне не верить, но я говорю Вам с глубокой искренностью, что я чувствую себя униженным вынесенным на мой счет приговором и был бы счастлив, если бы меня обвинили. К позорному клейму я сумел бы отнестись совсем равнодушно!» Но неравнодушно относился Зиновий Петрович к своей роли в несчастном сражении – его преследовали совесть и боль за погибшую эскадру и пять тысяч человеческих жизней. Еще и из-за ран его жизнь оборвалась так быстро – в ночь на 1 января 1909 года адмирал Рожественский внезапно скончался от остановки сердца. Его похоронили на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. Организаторы похорон были