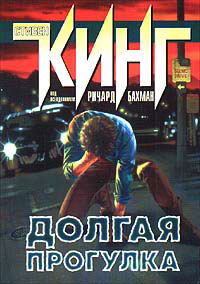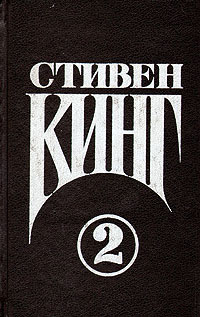i
В баре в гостиной стояла бутылка односолодового виски. Мнехотелось выпить стаканчик, но я устоял. Возникло желание потянуть время, может,съесть на кухне один из сандвичей с яйцом и салатом, подумать, что я скажужене, но я не стал этого делать. Иногда единственный способ довести что-то доконца — сразу этим заняться. Я взял трубку радиотелефона и прошёл во«флоридскую комнату». Там было холодно, несмотря на закрытые сдвижные панели. Яподумал, что холод взбодрит меня, а вид солнца, падающего за горизонт ивычерчивающего жёлтую полосу на воде, успокоит. Потому что спокойствия мне оченьне хватало. Сердце бухало слишком сильно, щёки горели, бедро болело ужасно, ивнезапно я осознал, вот уж кошмар, так кошмар, что забыл имя жены. Всякий раз,когда пытался вспомнить, на ум приходило слово peligro — «опасность» наиспанском.
И я решил, что до звонка в Миннесоту должен кое-что сделать.
Оставил трубку на диване, прохромал в спальню (теперь накостыле: до отхода ко сну разлучаться с ним не собирался) и взял Ребу. Одноговзгляда в её синие глаза хватило, чтобы вспомнить имя жены, Пэм, и сердцебиениезамедлилось. С моей лучшей девочкой, зажатой между боком и культёй (еёбескостные розовые ножки болтались из стороны в сторону), я вернулся во«флоридскую комнату» и снова сел. Реба упала мне на колени, и я посадил еёрядом, лицом к уходящему за западный горизонт солнцу.
— Если будешь долго на него смотреть, ты ослепнешь, —предупредил я. — Разумеется, это будет весело. Брюс Спрингстин, тысячадевятьсот семьдесят третий год или около того.
Реба не ответила.
— Мне следовало быть наверху, рисовать всё это. — Я обвёлрукой Залив. — Заниматься грёбаным искусством ради гребаного искусства.
Ответа опять не получил. Широко раскрытые глаза Ребыговорили всем и вся, что жизнь свела её с самым противным парнишей Америки.
Я поднял трубку. Потряс перед её лицом.
— Я могу это сделать.
Ответа не последовало, но мне показалось, что я уловил налице Ребы сомнение. Под нами ракушки продолжали раздуваемый ветром спор: «Тысделал, я не сделал, нет, ты сделал».
Мне хотелось продолжить дискуссию с моей воздействующей назлость куклой, но вместо этого я набрал телефонный номер дома, который когда-тобыл моим. Надеялся услышать автоответчик Пэм, но вместо этого в трубке раздалсязапыхавшийся голос самой дамы.
— Джоанн, слава Богу, что ты позвонила. Я опаздываю, инадеялась, что смогу прийти к тебе не в три пятнадцать, как мы договаривались,а…
— Это не Джоанн, — перебил её я. Механически взял Ребу,вернул себе на колени. — Это Эдгар. И ты можешь отменить назначенное на трипятнадцать. Нам есть о чём поговорить, и дело важное.
— Что-нибудь случилось?
— Со мной? Ничего. Я в полном порядке.
— Эдгар, можем мы поговорить позже? Мне нужно к парикмахеру,и я опаздываю. Вернусь к шести.
— Речь пойдёт о Томе Райли.
В той части Америки, где находилась Пэм, воцарилась тишина.И затянулась она секунд на десять. За это время жёлтая полоса на воде чутьпотемнела. Элизабет Истлейк знала Эмили Дикинсон. Я задался вопросом, знала лиона Вачела Линдсея.[77]
— А что насчёт Тома? — наконец спросила Пэм. Осторожно,крайне осторожно. Я не сомневался, что про парикмахера она напрочь забыла.
— У меня есть основания полагать, что он, возможно, замыслилсамоубийство. — Плечом я прижал трубку к уху и начал поглаживать волосы Ребы. —Ты об этом что-нибудь знаешь?
— Что я… что я могу… — У неё перехватывало дыхание. Какпосле удара в солнечное сплетение. — Ради Бога, откуда я могу… — Она потихонькуприходила в себя, решила изобразить негодование. Что ж, в подобной ситуации — несамый плохой вариант. — Ты звонишь мне ни с того ни с сего и думаешь, что ярасскажу тебе, что творится в голове у Тома Райли? Я-то полагала, что тебестановится лучше, но, похоже…