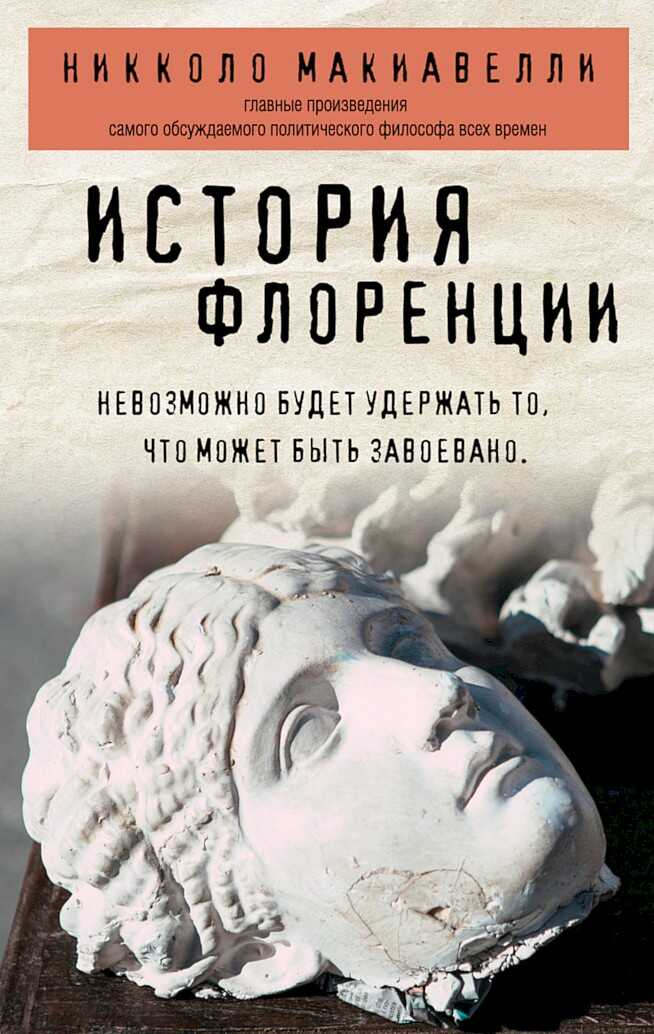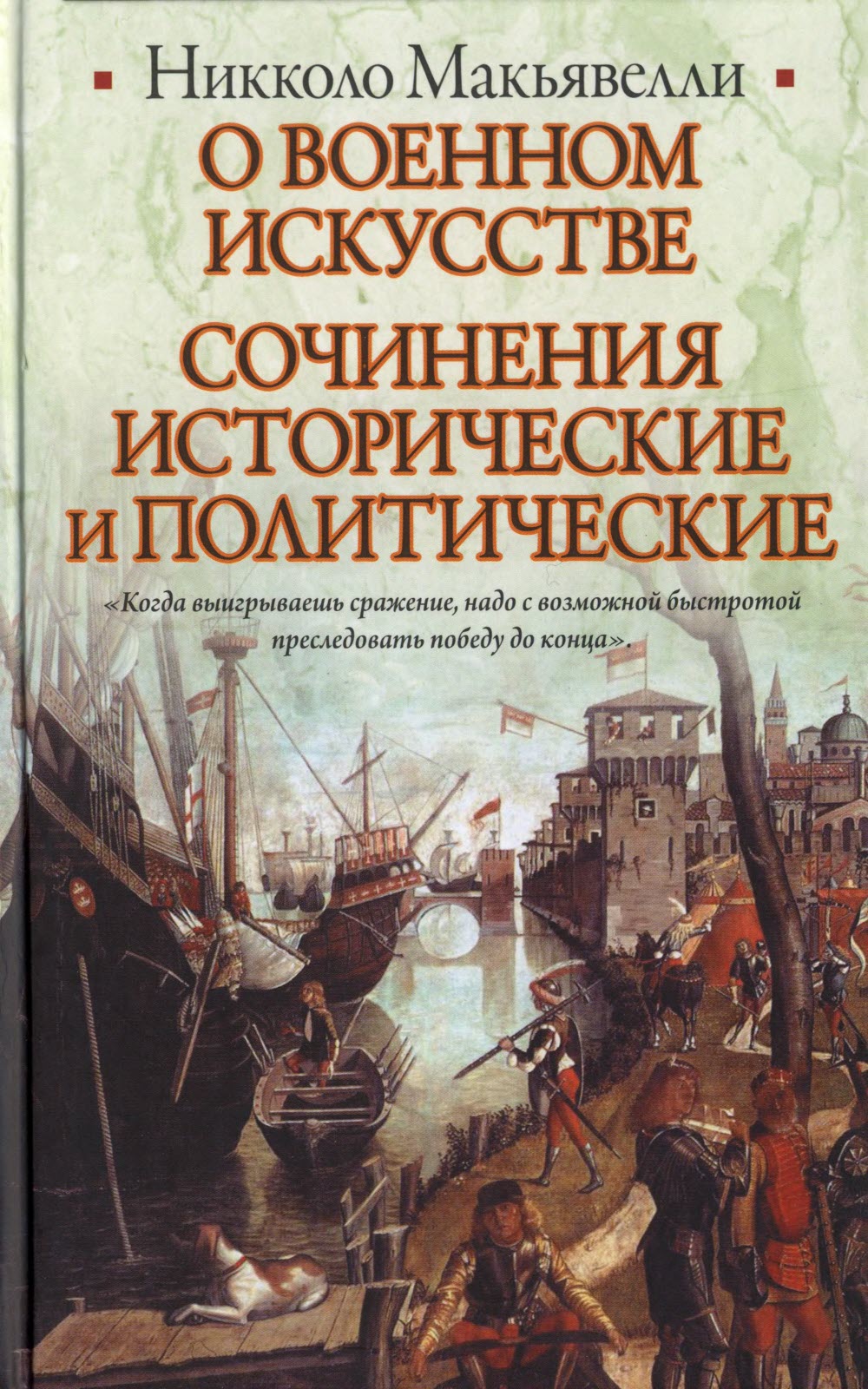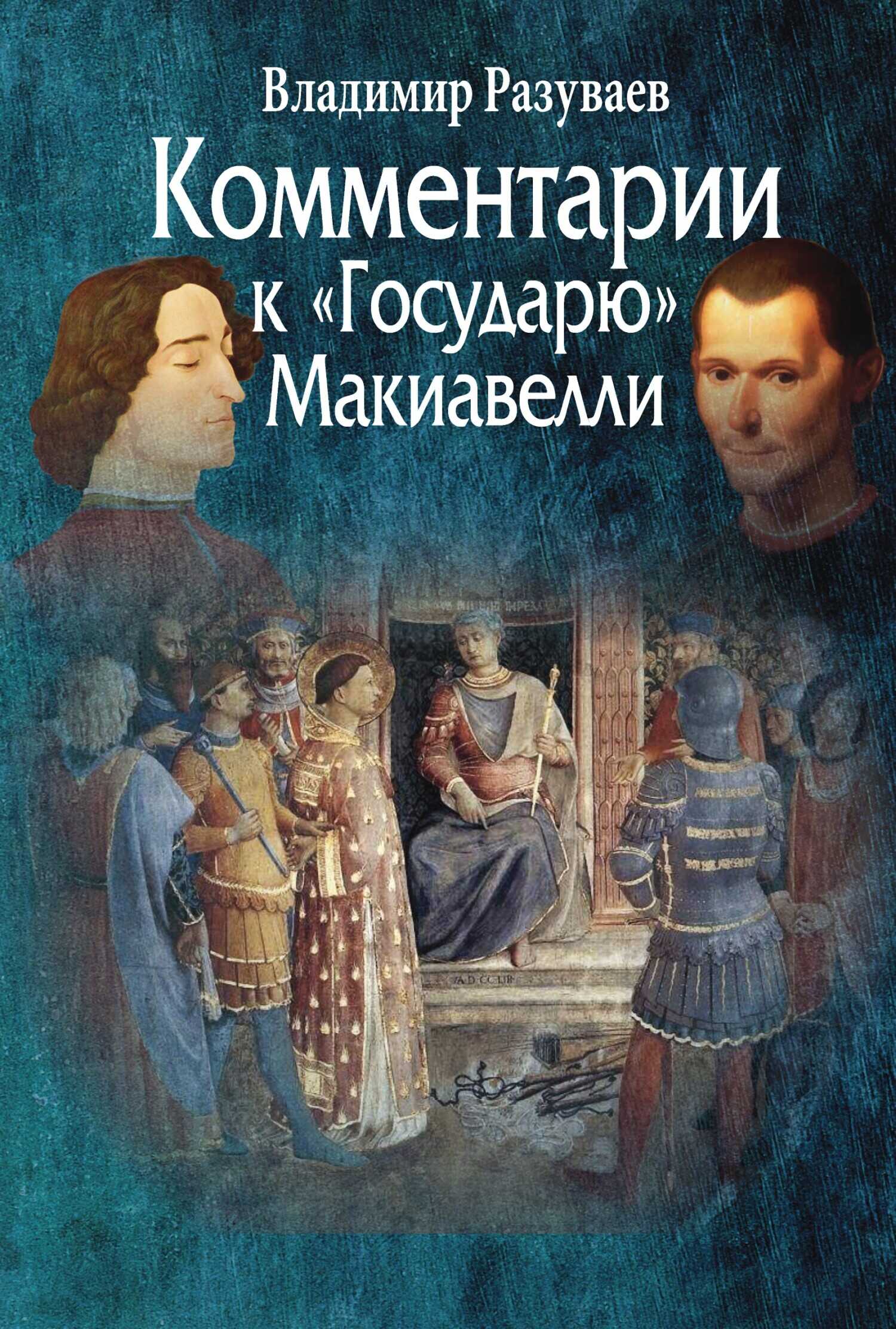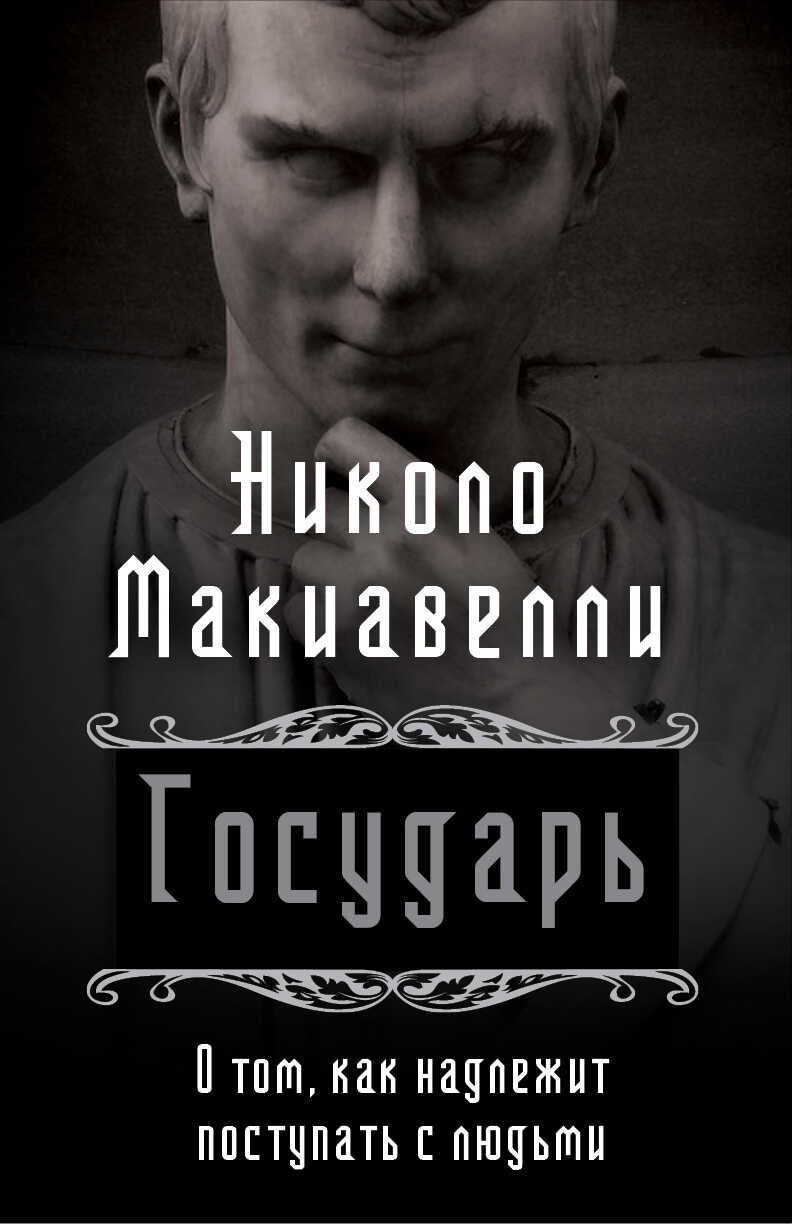Владимир Максимовский, неявно сославшись на «Государя», предупреждал его – правда, без особого успеха – о том, что «власть principe nuovo – временная власть»[56] («Идеи диктатуры у Макиавелли», 1929). Но это длилось недолго, поскольку при Сталине давление на представителей интеллектуального труда в Советском Союзе постепенно стало практически невыносимым, и даже работа над произведениями Макиавелли оказалась опасной. Так, в 1936 году, когда Лев Каменев, один из крупнейших деятелей большевистской партии, был по приказу Сталина осужден за антиреволюционную деятельность, против него сыграло и то, что двумя годами ранее он написал небольшое предисловие к новому переводу книги Макиавелли, – этот факт был сочтен доказательством его аморальности и способствовал вынесению смертного приговора. С этого момента сочинения Макиавелли в Советском Союзе практически не изучали.
В зеркале Веймарской республики (1946 – до наших дней)
Веймарская республика (1918–1933) просуществовала недолго: ее ослабила ультраправая оппозиция и окончательно разгромили сторонники Адольфа Гитлера. Тем не менее идеям, сформировавшимся за этот короткий период страшной неопределенности и больших надежд, суждено было оставить неизгладимый след в мысли XX века, причем в самых разных областях, в том числе и в исследовании творчества Макиавелли. Им занимались Макс Вебер и Фридрих Мейнеке – оба родились в 1860-е годы, и обоим было интересно ретроспективно осмыслить тот глубокий след, который оставил в немецкой политике гегелевский Макиавелли, пусть даже они пришли к совершенно разным выводам. Однако подлинная новизна исходила от нового поколения ученых, родившихся в начале века и призванных заниматься проблемами Германии в годы ее становления, хотя их интуиции предстояло принести плоды только через несколько десятилетий, в других странах и даже на другом континенте. Среди них прежде всего следует назвать трех учеников Мейнеке – молодых историков Ханса Барона, Феликса Гилберта и Николая Рубинштейна. Все они, искренние приверженцы недавно возникших демократических институтов Германии, представляли Макиавелли стойким республиканцем, и благодаря им «Рассуждения», в XIX веке частично забытые, не только получили переоценку, но и вошли в интеллектуальную и политическую традицию, характерную для свободных итальянских коммун, – в традицию, которую Ханс Барон определил как гражданский гуманизм сначала в рецензии на работу Мейнеке (1925), а затем в монографии о Леонардо Бруни (1928). Они полагали, что Макиавелли достоин похвал не как отдельно взятый гений, а как вершина целой цивилизации, в которой зародилась современная свобода.
Все трое учеников Мейнеке были евреями и вынужденно эмигрировали после того, как к власти пришел Гитлер (1933). Из числа исследователей творчества Макиавелли так же поступили Кассирер и Хиршман, о которых мы уже упоминали. После бесчисленных трудностей Барон и Гилберт обосновались в США, а Рубинштейн – в Англии. Здесь их интерес к политическому опыту коммун нашел благодатную почву в традициях британского и американского либерализма, представители которого с XIX века рассматривали средневековые итальянские города-государства как связующее звено между классическим республиканизмом и современной свободой. Здесь уместно привести цитату из творчества Перси Шелли, английского поэта-романтика, прославившего странствия «знамени свободы»:
Из века в век, во всех краях,
Она. Огнем, что ей зажжен,
Флоренция, и Альбион,
И Альп страна – горят…[57]
(Эллада, 1822).
Тезисы Барона, Гилберта и Рубинштейна, переформулированные на английском языке, быстро распространились по миру и способствовали переосмыслению «Рассуждений», что стало главной особенностью изучения произведений Макиавелли во второй половине XX века. Предвестником этого значительного сдвига стал первый серьезный исторический комментарий, подготовленный в США иезуитским ученым Лесли Уокером (1950). Без достижений немецких эмигрантов были бы просто немыслимы и две крупные англоязычные попытки ввести Макиавелли в грандиозный многовековой нарратив – книга Джона Покока «Момент Макиавелли»[58] (1975), повествующая о судьбе флорентийского республиканизма вплоть до Английской и Американской революций, а также первый том книги Квентина Скиннера «Истоки современной политической мысли»[59] (1978), посвященный языку политики в Италии XIII–XVI веков. Особенно актуальны в этом отношении книга Барона «Кризис раннего итальянского Возрождения» (The Crisis of the Early Italian Renaissance, 1954), где проведены параллели между войнами средневековой Флоренции с миланскими герцогами и борьбой союзников против нацистской Германии, и более нюансированная работа Гилберта «Макиавелли и Гвиччардини» (Machiavelli and Guicciardini, 1965).
Влияние культурных и политических противостояний, имевших место в Веймарской республике, можно интерпретировать и с другой точки зрения, в рамках которой Макиавелли представлен прежде всего как ликвидатор классической политической философии, – вопреки Пококу и Скиннеру, которые настаивают на преемственности между античным и современным республиканизмом, даже когда превозносят оригинальность и актуальность «Рассуждений» для нашего времени. Подобное прочтение характерно для некоторых немецких мыслителей, эмигрировавших в США ради спасения от нацистов, – для консервативных философов Эрика Фегелина и Лео Штрауса, а также для теоретика гражданской активности Ханны Арендт (Штраус и Арендт, помимо прочего, были евреями). Эти трое деятелей довольно далеки друг от друга и в каком-то плане даже разделяют противоположные политические взгляды, однако все они возродили антимакиавеллистскую традицию в большом нарративе, в котором современность – вопреки Гегелю и либеральным движениям XIX века – уже не соответствует диалектически неизбежному триумфу поступательного духовного становления, а мыслится как болезненное падение с утраченной вершины греческой философии. По всей видимости, такая антимодернистская позиция была наследием Мартина Хайдеггера: его учение оказало сильное влияние на Штрауса и Арендт в их молодости (хотя Хайдеггер в то время был убежденным сторонником нацизма). Не случайно другой его ранний поклонник, подвергавшийся преследованиям при Гитлере, немецкий политический мыслитель Дольф Штернбергер позже, в 1978 году, выскажет сходные мысли в книге «Три корня политики» (Three Roots of Politics).
В частности, по мнению Штрауса, именно Макиавелли, отказавшись от великой сократовской традиции, которой следовали Платон, Аристотель и Ксенофонт, заменил страх наказания на воспитание, необходимость – на свободу, управление массами – на правительство, состоящее из опытных людей. Впрочем, Штраус не исключает, что в трудах Макиавелли может скрываться тайное учение, противоречащее очевидному и доступное лишь немногим мудрецам (Thoughts on Machiavelli, 1958). В рамках того же возражения Штраус, выступая сторонником естественного права, осудил юридический позитивизм австрийского юриста XX века Ганса Кельзена – интеллектуальную традицию, сторонники которой подчеркивали условный характер права и не усматривали его основ ни в божественных заповедях, ни в разуме, ни в правах человека. Штраус рассматривал это как опасную актуализацию утверждений Макиавелли о неограниченной власти правителей (Естественное право и история[60], 1953).
Штраус прочитывал тексты Макиавелли очень внимательно, и если сравнить с его трактовками интерпретацию, которую в те же годы предложила Ханна Арендт, то мы увидим, что ее знакомство с «Государем» и «Рассуждениями» окажется намного более поверхностным. Она последовала по тому же пути, каким прошел Буркхардт, и увидела в Макиавелли своего рода ренессансного неоязычника, предшественника Ницше, очарованного мирской славой, неведомым образом выходящей за рамки добра и зла. В ее