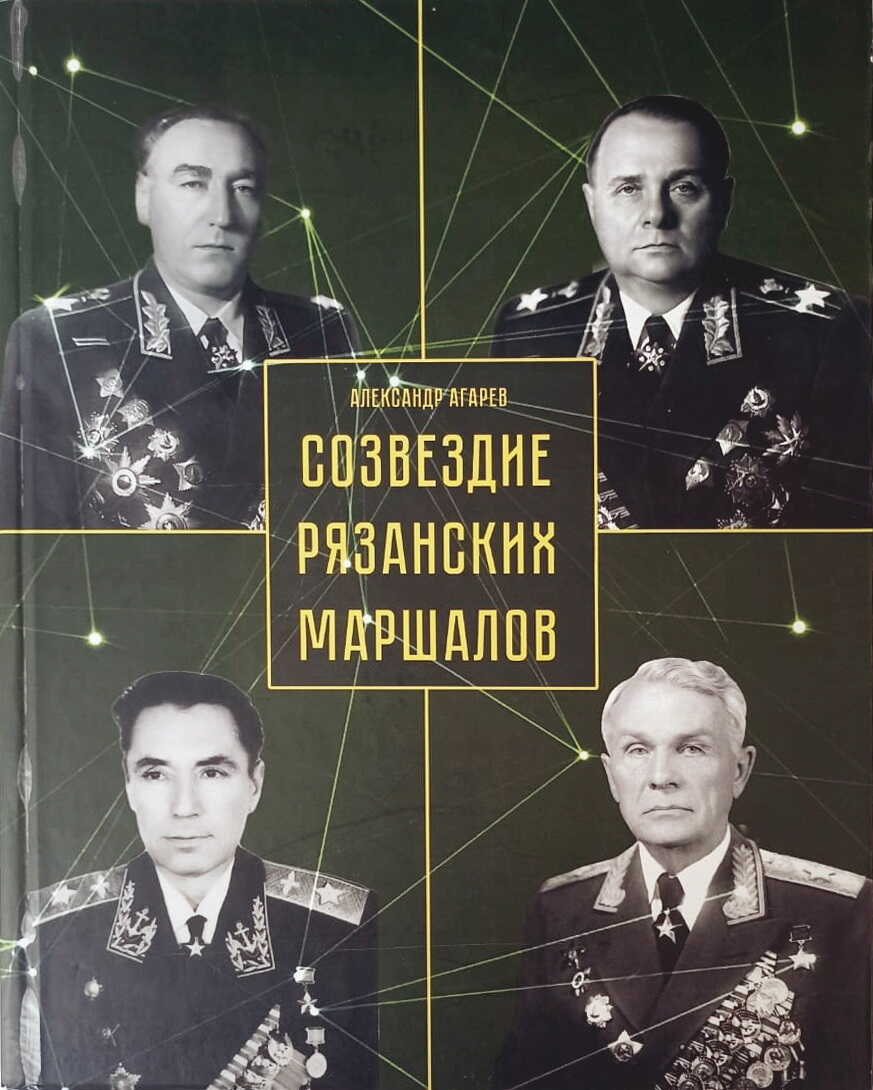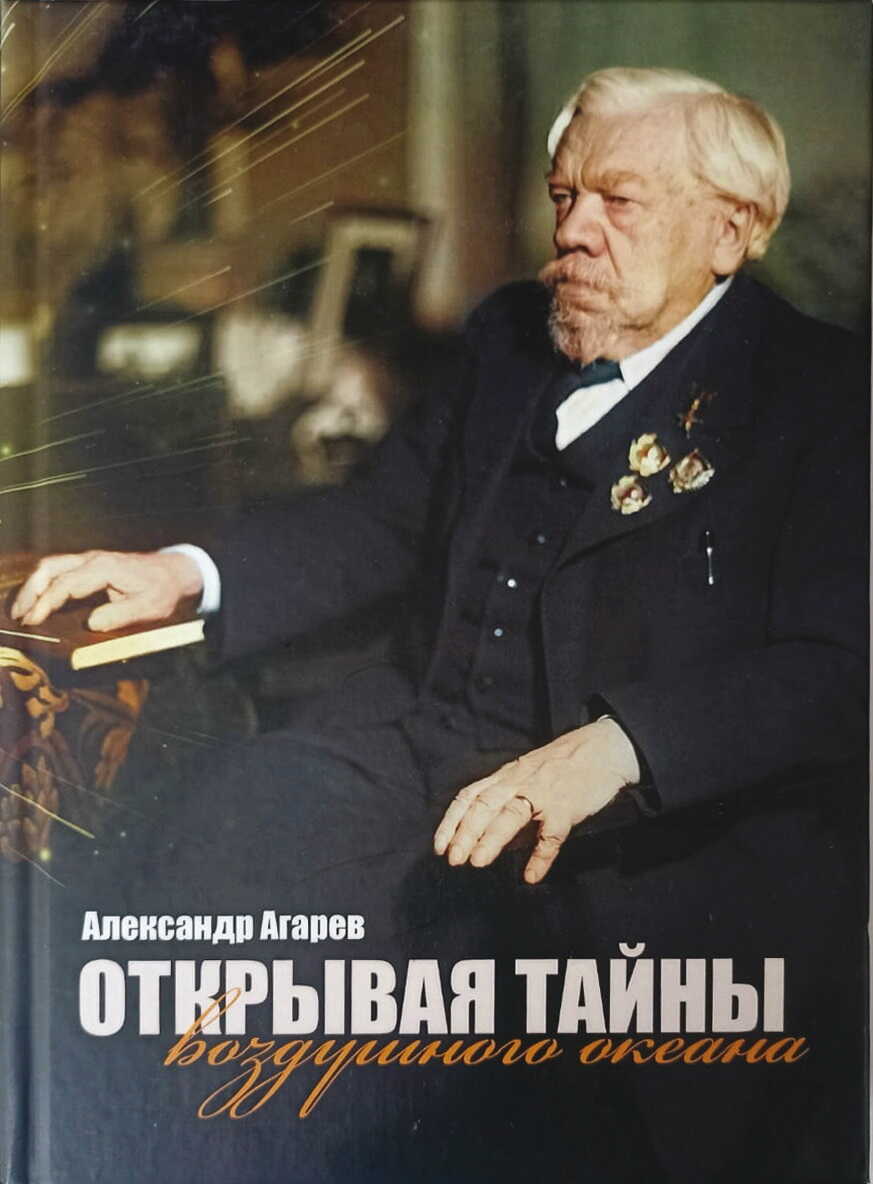наведения. Алгоритмы, прогнозирующие движение корабля до конечной точки, гибко формировали такую траекторию спуска, которая проходила вблизи ограничения по температуре, но ни в коем случае не заходила за него. Вот такое в некотором роде хождение по краю пропасти обеспечивала система управления. И ничуть не проще было обеспечить стабилизацию «Бурана» сначала только с помощью двигателей малой тяги, а потом с использованием и аэродинамических исполнительных органов. Нужно было очень точно выдерживать значение угла атаки. Иначе температурное воздействие могло разрушить либо остекление кабины – при уменьшении угла атаки, либо кромки двигателей орбитального маневрирования – при его увеличении.
Задача, решённая на этом участке системой управления, поистине уникальна. Потому с таким напряжением участники спуска ждали появления телеметрической информации после перерыва, вызванного плазменной ионизацией. И когда на высоте чуть более 46 километров радиосвязь стала устойчивой, появилась уверенность – «Буран» идёт точно по номинальной траектории и будет на посадочной полосе.
Каждый учёный, конструктор, инженер испытывает законную гордость, справившись со сложной задачей. Думаю, коллектив разработчиков системы управления «Бураном» имеет полное право гордиться своим детищем.
В газете «Социалистическая индустрия» 7 декабря 1988 г. о полёте «Бурана» рассказывал В. Лапыгин, генеральный конструктор системы управления «Бураном», доктор технических наук, профессор:
«Пуск отложили, и состоялся он только спустя семнадцать дней – 15 ноября. Челнок за условным номером 101 был собран на Тушинском машиностроительном заводе, по Москве-реке на барже доставлен на аэродром, откуда «на спине» специально переоборудованного бомбардировщика и отправился на Байконур. Этот первый полёт «сто первого» вполне мог стать и последним: в воздухе у бомбардировщика неожиданно прохудился бак с керосином… Всё, однако, обошлось.
На Байконуре с «Бураном», наоборот, произошёл курьёз. Дело в том, что название «Буран», как и номер «объекта» – 11Ф35, – старались, мягко говоря, не афишировать. С другой стороны, было ясно, что отправлять корабль в космос без названия нельзя. И на борту большими красными буквами написали «Байкал». «Перекрестить» корабль не дал академик Валентин Глушко, настоявший, чтобы госкомиссия утвердила то название, к какому все уже привыкли. То ли случайно, то ли нет, но слово «Буран» было написано на борту уже синей краской, к тому же в другом месте и другим шрифтом.
Стоит ли напоминать, что посадка даже в обычной авиации является критической фазой полёта. В данном случае оснований для беспокойства было более чем достаточно. Ведь если раньше речь шла о приземлении космических аппаратов «в заданном районе» казахстанской степи, и встречающим на вертолётах было всё едино, упадёт спускаемый аппарат километром южнее или километром восточнее, то «Бурану» предстояло попасть в «заданную точку»: на взлётно-посадочную полосу шириной всего 80 метров и длиной пять с половиной километров.
Ситуация осложнялась ещё и тем, что в районе ВПП в тот день дул резкий боковой ветер, да и вообще погода была «не ахти». Истребитель сопровождения «потерял» на какое-то время «Буран» на подлёте к полосе. Как потом выяснилось, челнок в этот момент выполнял сложнейший манёвр для захода на посадку. Точность поразила всех: «Буран» коснулся поверхности всего в каком-то метре левее осевой линии ВПП».
Заключение
Что же такое для нас сегодня, в XXI веке, «Буран»? Каковы результаты осуществления проекта? Единственный взлёт и посадка челнока? Утрата приоритета в этой сфере космонавтики? Разбросанные по всей стране, безвозвратно утраченные оригиналы и макеты летательного аппарата? Великолепная команда космонавтов-испытателей, так и не нашедшая себе достойного применения? О каждой из составляющих этого без сомнения великого, проекта можно написать отдельную книгу.
Какова же судьба изготовленных лётных и макетных кораблей? Всего в рамках программы «Буран» было изготовлено пять полноразмерных макетов и запланировано производство пяти лётных образцов.
Первый лётный экземпляр «Бурана» (1.01), совершивший 15 ноября 1988 г. единственный полёт в космос в автоматическом режиме и вернувшийся на Землю, долгое время находился в монтажно-испытательном корпусе (МИКе) на космодроме «Байконур». Но в мае 2002-го на «Буран» рухнули бетонные плиты крыши МИКа, и искорёженный, раздавленный корабль оказался погребённым под грудой обломков.
Второй лётный экземпляр «Байкал» (1.02) стоит на Байконуре в монтажно-заправочном корпусе.
Третий (2.01) лётный экземпляр до 2004 г. находился в цехах Тушинского машиностроительного завода (НПО «Молния»), степень его готовности составляла до 50 процентов. В октябре 2004 г. корабль был перевезён на причал Химкинского водохранилища для временного хранения.
Четвёртый (2.02) экземпляр разобран на стапелях Тушинского машиностроительного завода ещё в начале 90-х гг.
Пятый собственно и не начинал собираться. Весь имевшийся по нему задел был уничтожен вместе с четвёртым экземпляром.
На Байкануре под открытым небом стоит полномасштабный макет для статических испытаний. Наконец, на открытой площадке космодрома размещён второй макет – для «частотных» испытаний. Ещё один планер (полномасштабный макет), предназначавшийся для статических испытаний, установлен на ВДНХ. В подмосковном Королёве, в ракетно-космической корпорации «Энергия», в огромном цехе стоит 35-метровый экземпляр «птички» высотой 16 метров, на котором проводились электрические испытания (вывезти макет можно только одним способом – разобрав стену корпуса).
Покинул страну только один опытный образец – аналог «Бурана» БТС-002 (ОК-ГЛИ), отправленный в 2000 году на условиях аренды в Австралию, затем в Бахрейн. В феврале 2008 г. полноправным собственником БТС-002 стал самый крупный в Европе частный Технический музей в немецком городе Зинсхайме. Этот образец летал, но только не в космосе, а сравнительно невысоко в атмосфере. Оснащён был самолётными двигателями: на нём испытывалась в Жуковском система приземления[81].
Это, практически вся информация о судьбе опытных образцов и макетов «Бурана».
Но были у проекта «Буран» – «Энергия» и другие результаты – сугубо научного и технологического характера. Расскажем и о них.
В 1976 году было принято решение о создании в Министерстве авиационной промышленности СССР нового предприятия – Научно-производственного объединения «Молния». Ему была поручена головная роль в создании планера (с бортовыми системами планера) многоразового орбитального корабля «Буран» универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия-Буран» и в обеспечении посадки ОК «Буран», после схода с орбиты ИСЗ, на взлётно-посадочную полосу космодрома «Байконур» (или на запасные аэродромы).
Прототип «Бурана» ОК-ГЛИ № 002 («Орбитальный корабль для горизонтальных лётных испытаний») с бортовым номером СССР-3501002.
Технический музей г. Шпайер, Германия.
Фото: ©Вадим Лукашевич (http://www.buran.ru)
Ответственность за выполнение этих сложнейших задач взяли на себя Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский – Генеральный директор – Главный конструктор и Геннадий Петрович Дементьев – Первый заместитель Генерального директора – Главный конструктор НПО «Молния» Минавиапрома СССР. О них мы уже рассказывали на этих страницах, но не грех ещё раз назвать этих людей, составляющих славу российской и советской науки.
15 ноября 1988 г. ОК «Буран» после выведения