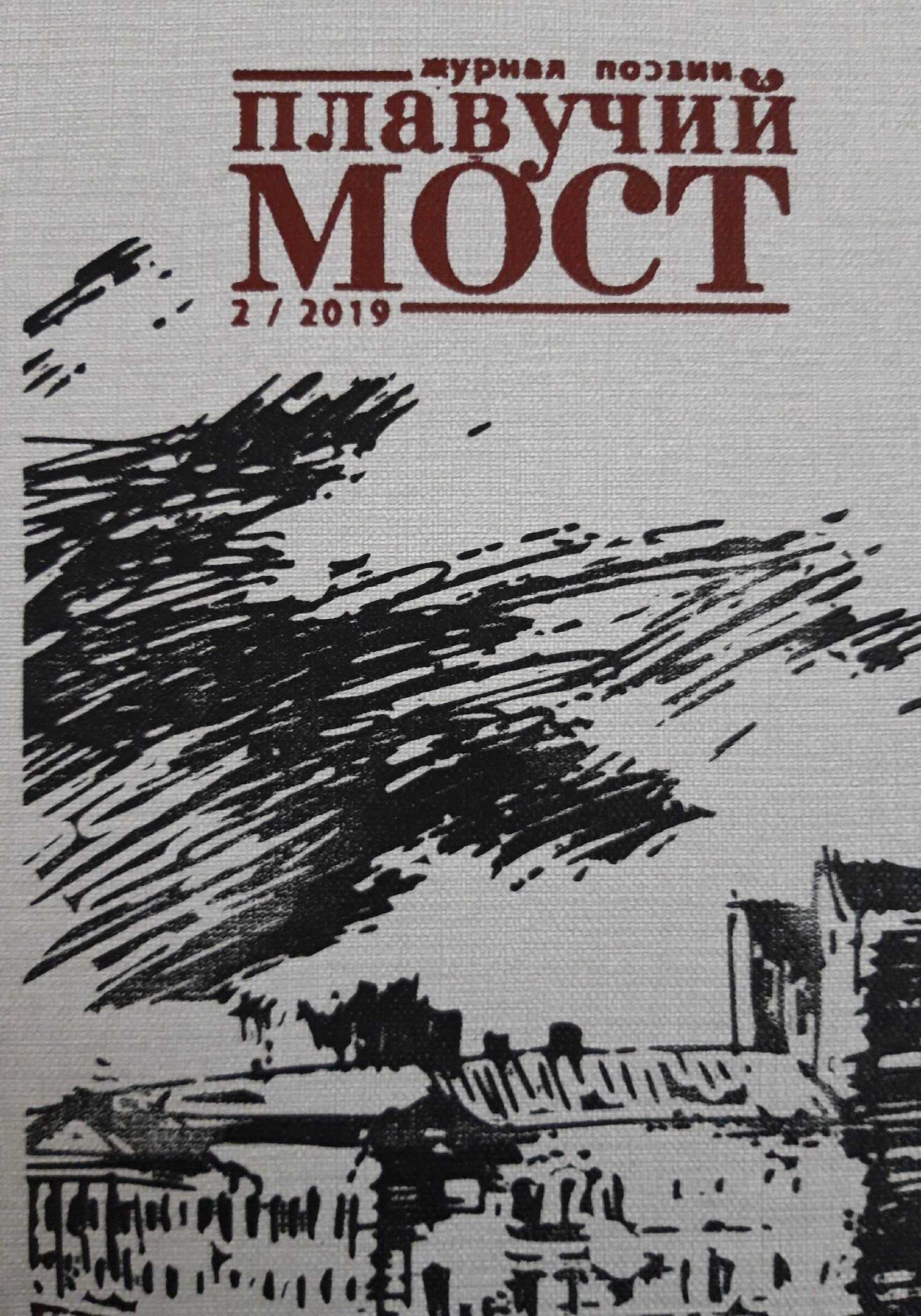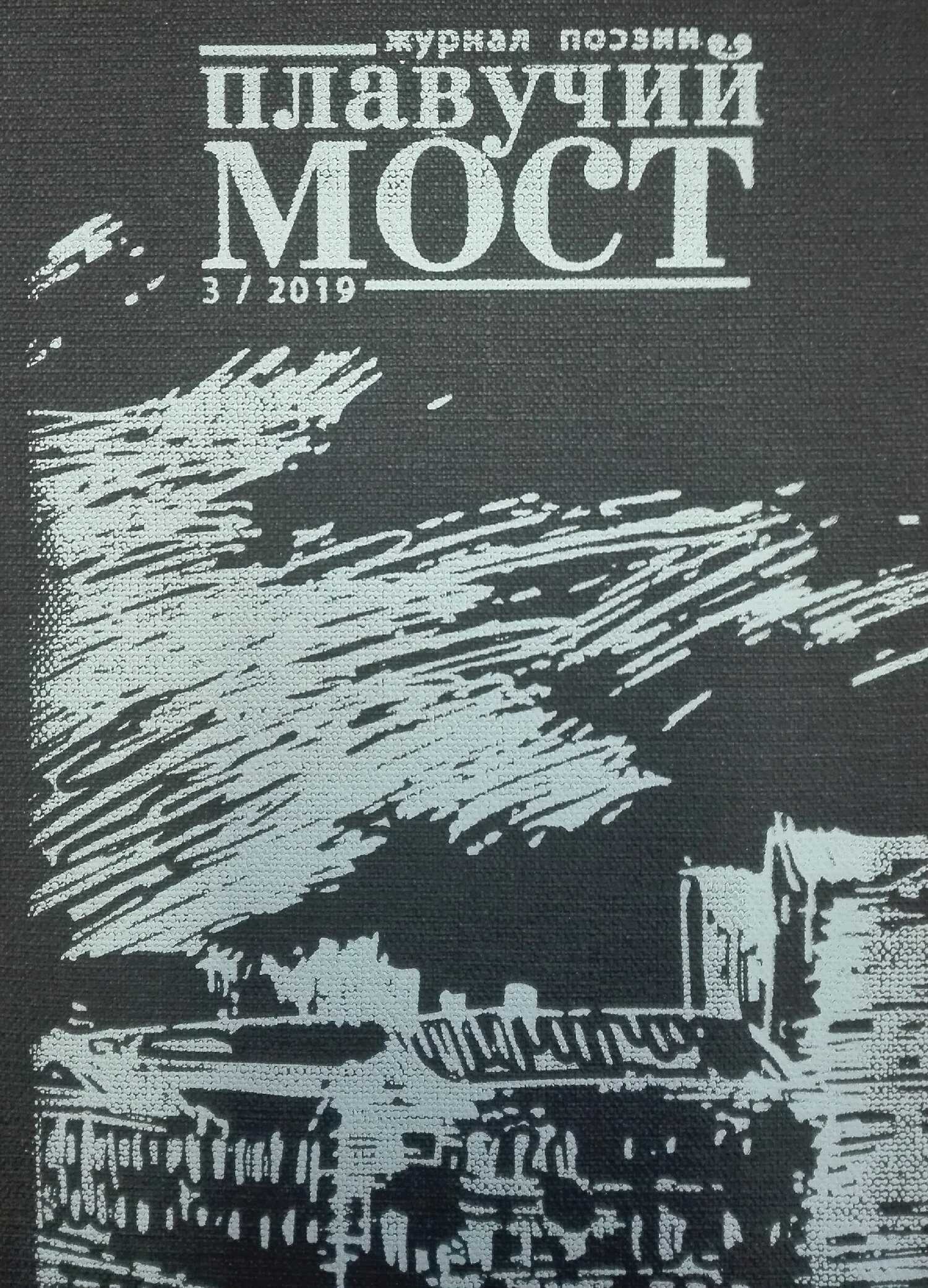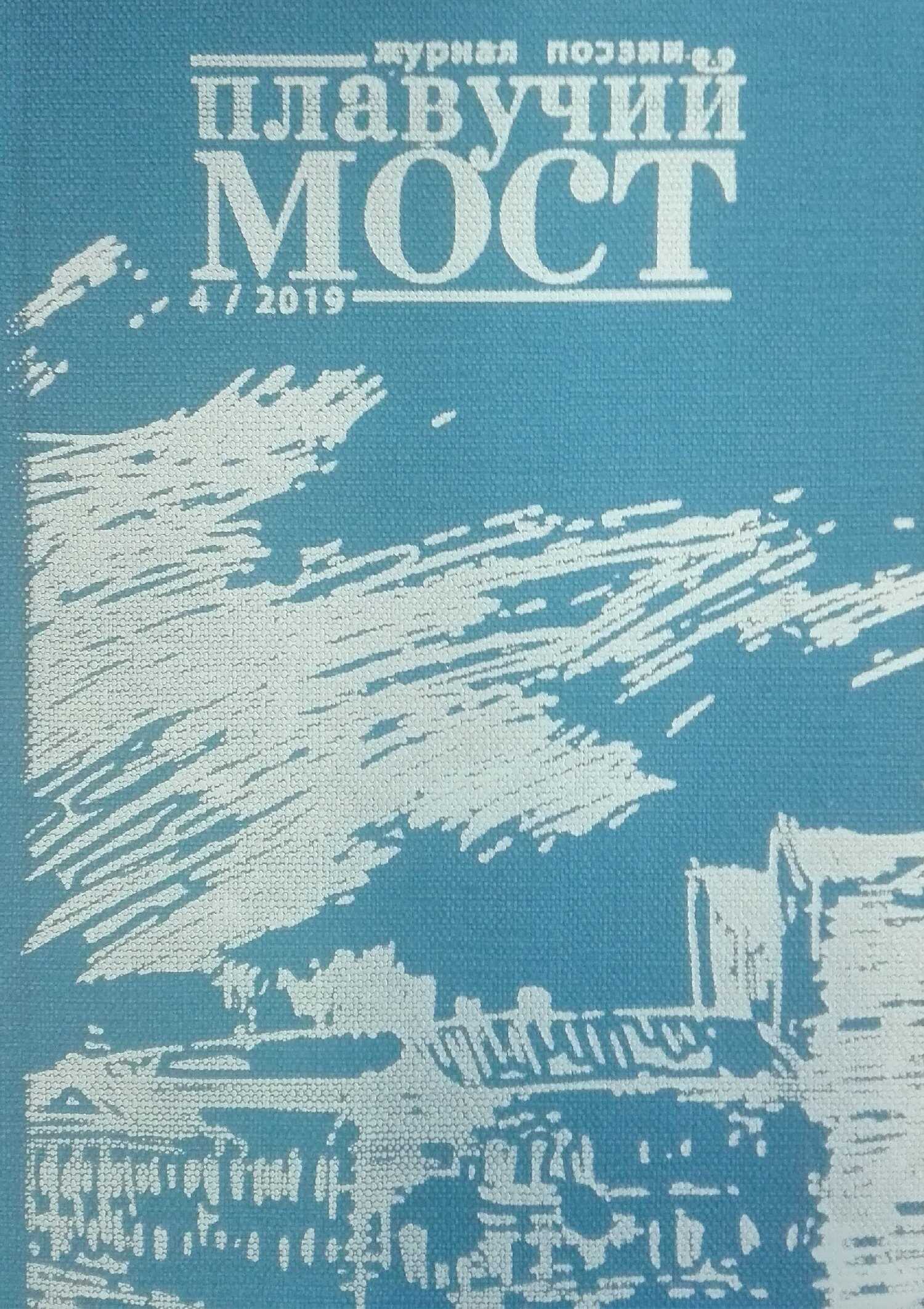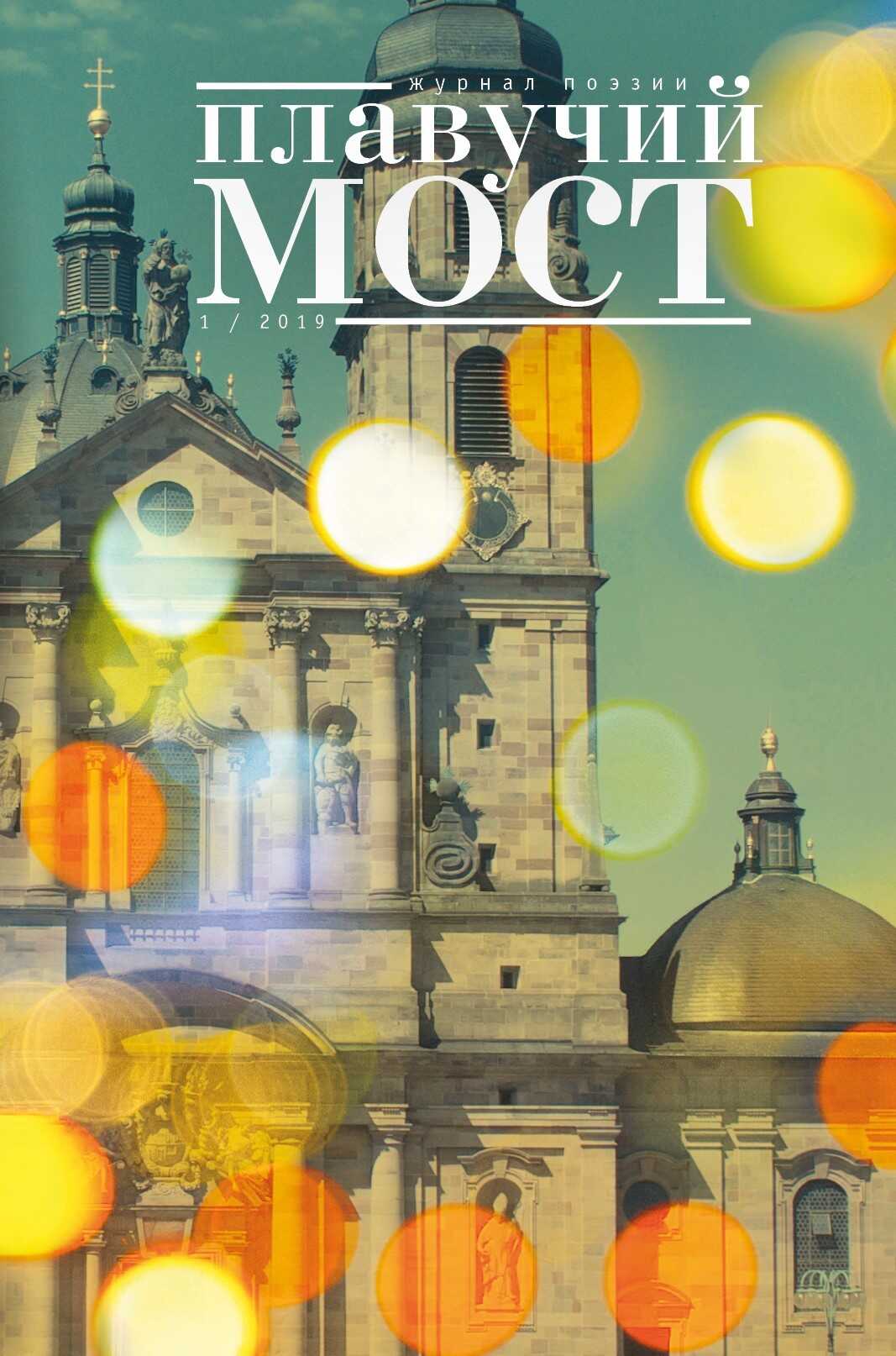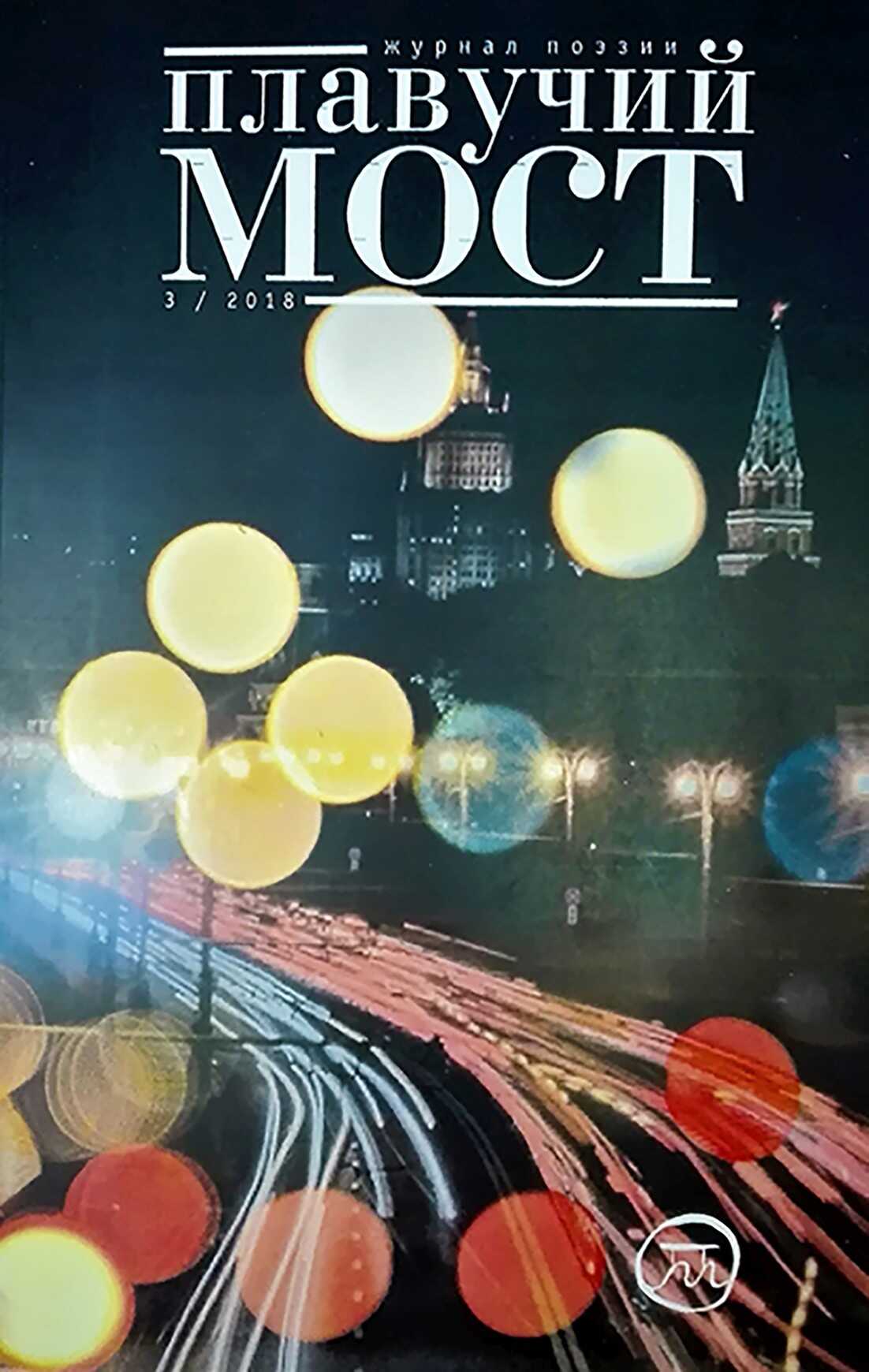соком, аккордеон; одна девушка
Выгибается, завязав футболку узлом.
Возле самого берега колышутся сети,
Словно кто-то охотится сквозь сон, вслепую, медленно
Танцуя.
Говори, бормочи, зови меня, Змейка,
Пока я ещё не проснулся.
«Маленькая Людка…»
Маленькая Людка – помнишь эту чумазую соседскую девочку? —
и пёс, который приплёлся за твоим сыном,
а потом
исчез во время одной из зимних рыбалок, —
может, они приходили только к тебе,
чтобы ты смогла потом узнать их там?
Человек,
человечек и животное – так вы
и стоите перед Ним, вымытые,
нарядные,
словно семья у фотографа, и щуритесь,
и пытаетесь рассмотреть Его в мерцающем,
предпоследнем Его свете.
Дом
1
Охотничья дорога, мощёная старым камнем: когда-то
называлась Бароновкой – теперь "Барановка" – хотя какие уж
тут бараны?
Всё упрощено до двух тактов, и лес
просматривается насквозь.
Суровые мужчины в клетчатых рубашках сидят верхом
на кентаврах, скрещенных из тракторов и мотоциклов.
Дождёмся вечера,
когда нас плотнее окружит зелень, и лучи
света возьмут под колени и под мышки, медленно
поднимая. И то,
что шуршало в темноте, заговорит.
Старый навес из почерневших досок будет посольством
мудрецов, которые варят сыр для ребёнка.
Лёгкие, избавленные от мелких желаний перед
лицом того, кто достоин вечной славы, ляжем
спать между овцами, чтобы утром
повернуть в сторону дома.
2
Так далеко не долетит пуля, а я вижу тебя:
ты спускаешься между деревьев, несёшь спелёнутого младенца.
Торжественная, как девочка, которой впервые доверили
младшего братика.
Переступаешь ручей, наверное, набрав
в туфли воды.
И вдруг исчезаешь за двумя рядами кустарника,
за каким-то дровяным сараем,
из-за досок навеса просеивается свет, потом гаснет, впереди —
поникшие дубы
и полоса густой темноты – в ней старшие дети
играют в прятки, и тебя не видно
уже много минут,
а моё сердце колотится, и не может
перестать.
3
Был бег наперегонки по речным камням,
и была резковатая, очень прозрачная вода, и
были рвы в поникшем лесу, в которые
мы падали, словно ягоды в рукав,
и был страх, и танцы
с Оленками и Яринками – они пахли
помадой и молоком, и были огни,
и дымы, предвещавшие погоду,
и старый кухонный стол, на котором играли
в теннис, и мы дурацкими прозвищами
заказывали друг другу будущее,
пока оно не истончилось
и не отвердело, как ствол, погружённый в реку,
из соседнего, уже затихшего
поля к нам залетал мяч, чтобы мы его
гнали к воображаемой цели,
и не было ничего, кроме жизни, а жизнь была
недостижима.
История
Тёплая, неразделимая с морозной ночью,
словно рукоять со своим ножом.
Тело —
её нежное посольство,
А государство её – тёмные дворы,
где могут убить чужака.
Я знаю,
я позволяю половине её лица жить в темноте,
не передвигаю лампу.
И не спрашиваю,
но она сама начинает рассказывать.
Сын её просыпается,
будто сбивается с ритма сна.
«Четверо суток, —
говорит она. – тогда мы дольше всего
не поднимались наверх.
На третий день – или ночь – закончились свечки,
и я начала вспоминать,
нарочно,
ничего конкретного,
просто окно в комнате. Какой-то
день, который не начался
и не закончился.
Вечер, когда идёшь ко сну,
выключаешь свет и знаешь, что в темноте
цветут деревья и охотятся ночные птицы.
Утро,
когда дремлешь стоя, а каша никак
не закипает.
И, может, все эти годы
монотонных пробуждений, когда ничего не происходит,
назначены нам,
чтобы мы,
словно камень,
долго лежащий на солнце и запасающий тепло,
в одну тяжёлую ночь
согрели чью-нибудь щёку?»
Любовь
Такое покалывание,
словно тёплый фаянс
берёшь перемёрзшей рукой,
или тело, отерпшее со сна,
пересекает комнату,
ещё слегка подволакивая ноги
и улыбаясь.
Такое покалывание,
как тогда, когда папу
почему-то не брили уже несколько суток,
а он лежал,
словно
солёный и перегретый камень,
и по очереди нас обнимал.
Такое покалывание, словно
долго ёлку несёшь сквозь тугой
от мороза воздух,
и знаешь, что кто-то
среди людей,
убаюканных Святою Вестью,
всё ещё ждёт и не спит.
Орфей
На самом деле у этой истории
есть предыстория, и она —
про мальчишку, который боялся воды.
Но он шёл со всеми на берег, карабкался
на длинный камень,
и когда ребята ныряли в море, он оставался
там стоять, худой и растерянный,
и смотрел, как удаляются
головы в опахалах брызг,
и надеялся лишь на одно —
что ни одна из них не обернётся.
А потом отправлялся к ближним
домам, снося от бессилия
головы чертополохам,
не похожий на всех остальных —
подобный медной струне, случайно
вплетённой в корзину.
Ты знаешь этого мальчика?
Знаешь, в какое мгновение
из злости выходит музыка, словно бабочка
из перемёрзшего кокона?
Знаешь, где он был до самого утра, когда
родители нашли его в траве, потного,
со сцепленными зубами?
И скажи ещё: сколько злости может быть в стихе?
Ровно столько, чтобы
заглушить сирен?
Никарагуа
Выбегают ребята из школы,
похожей на синий ларец, и поют: