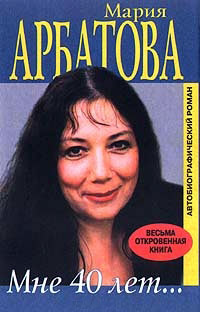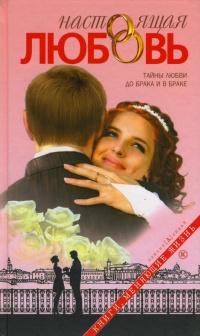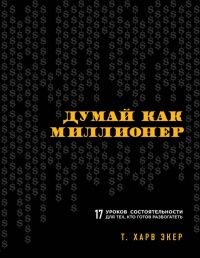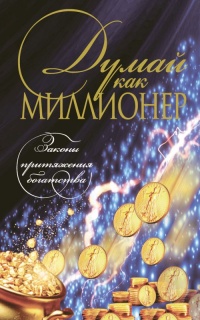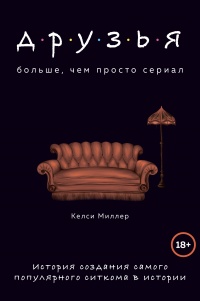«Герман вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться».
Разумеется Герман не хотел мухлевать, он считал, что три волшебные карты графини и без того обеспечат ему победу. Значит, в XIX веке существовало слово, описывавшее ситуацию, когда человек непреднамеренно вытаскивал не ту карту, которую хотел. Кстати, в словарях этот вариант почему-то не приводится. Там есть лишь прямое значение:
ОБДЕРНУТЬСЯ
– нусь, – нешься; сов.
(несов. обдергиваться). разг.
То же, что одернуться.
Любинька повернулась кругом, обдернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы[20].
Поэтому я написала своей собеседнице, что она ошибается, и в таких случаях нужно говорить не «передергивать», а «обдергиваться» – и послала ссылки. Вероятно, с тех пор она считает меня занудой, однако больше разногласий у нас не было.
Но из-за чего возникло непонимание? Возможно, первый человек, употребивший слово «передергивать» на просторах интернета, хорошо знал, что оно означало в XIX веке, и решил расширить его значение – применив не только к карточному шулерству, но и к сознательному искажению цитат. Выражение получилось яркое и образное и «пошло в люди». А потом на каком-то этапе «передачи по цепочке» кто-то, не знакомый со старинными карточным терминами, решил, что оно обозначает просто «ошибочное цитирование» – не зависимо от того, сделано это нарочно или произошло случайно. Грустная история, но она показывает, как развиваются языки: по большей части, неосознанно и хаотично. И если вы не хотите вносить в нашу речь дополнительный хаос, вам придется приучить себя следить за тем, что вы говорите и (особенно!) пишете. Ведь если устная речь живет секунды, а воспоминания о ней могут быть искажены, то «что написано пером, не вырубишь топором». И эта поговорка еще более верна в эпоху компьютеров и интернета.
А что до «подруги моей подруги» с ее заново изобретенным термином «новояз», то она как раз «передернула». Не знаю, сознательно или нет.
* * *
Какую мораль можно извлечь из этой истории? Наша речь – это сложный и живой организм, подчиняющийся своим законам. Не стоит воспринимать ее как покорного слугу, который должен угадывать ваши желания. Скорее, как я уже писала выше, это – норовистая лошадь, и она повезет вас туда, куда вы захотите только в том случае, если вы знаете, как с ней обращаться. А для этого нужно много учиться.
Промежуточные итоги-3
А как можно научиться обращаться с речью? Конечно, по словарям! И в этой главе я решила рассказать о своих любимых.
Первым из них, разумеется, будет «Словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Он действительно «живой», и его можно читать «как исторический роман» – погружаясь в прошлое вместе с очень много знающим и увлеченным гидом.
Среди прочих авторов словарей биография Даля известна широкой публике лучше всего. Многие из нас читали в детстве историю о том, как молодой флотский офицер, отправившись к месту службы случайно услышал от своего ямщика непонятное слово «замолаживает». Его удивило, насколько язык простого народа отличается от того, на котором говорили (хоть и не часто) люди его круга. И Даль начал собирать народные словечки, а потом – и приметы, пословицы, сказки. И в конце концов издал четырехтомный словарь, а еще сборник «Пословицы русского народа», несколько повестей и сказок собственного сочинения.
Даль, как и его друг Пушкин, родился на рубеже веков – 10 (22) ноября 1801 года. Но он не мог похвастаться такой голубой кровью, как Александр Сергеевич, происходивший по отцовской линии от московских бояр, а по материнской – от эфиопского принца. Нет, родословная Даля выглядела гораздо скоромнее, хотя на свой лад была замечательной. Его отец – обрусевший датчанин Йохан (Иоганн) Кристиан Даль – всего за два года до рождения сына принял русское подданство и взял имя Ивана Матвеевича. Он был известен в Европе как богослов и полиглот, знавший в общей сложности восемь языков: немецкий, английский, французский, русский, идиш, латынь, греческий и древнееврейский. Уже будучи взрослым, вполне состоявшимся человеком, он решил получить медицинское образование в Йенском университете. Новые образование и профессия были необходимы ему, чтобы жениться на любимой девушке – Марии Христофоровне Фрейтаг, русской подданной, дочери немца и француженки. Семья его невесты тоже могла похвастать «лингвистической жилкой»: Мария Христофоровна знала пять языков, ее мать переводила с немецкого на русский. А сам Владимир Иванович владел 12-ю языками.