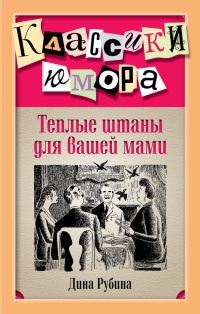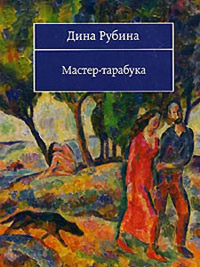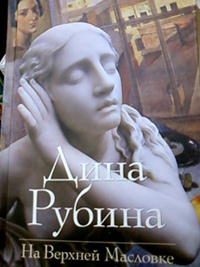– Это пишет самый дорогой художник двадцатого столетия, – с горечью заметил Борис. Он лежал на спине, опираясь затылком в сцепленные ладони, и глядел в потолок, на котором косо повешенная люстра грозила однажды свалиться прямехонько между постояльцами. – Беспощадный мир, он питается только живой кровью художника! «Красные виноградники» – единственная его картина, проданная при жизни за 400 франков, – сейчас стоит больше, чем какой-нибудь сталеплавильный завод… – Он простонал: – О, боги, боги! Рюмочку абсента!
Если хочешь доставить мне очень большую радость, вышли несколько кусков горного мела. В горном меле есть душа и жизнь, тогда как в обычном рисовальном меле я нахожу что-то мертвенное. Две скрипки часто выглядят одинаково, но, играя на них, обнаруживаешь, что одна звучит красиво, а другая нет. У горного мела звучный глубокий тон. Я сказал бы даже, что горный мел понимает, чего я хочу, он мудро прислушивается ко мне и подчиняется; обыкновенный же мел равнодушен и не сотрудничает с художником. У горного мела душа настоящего цыгана; пришли мне его, если это не слишком тебя затруднит.
В конце концов я устала и продолжала читать молча, все больше погружаясь в водоворот его запутанной, подраненной, стремительной жизни, про которую сам он заметил однажды: «В жизни то же, что в рисовании: иногда нужно действовать быстро и решительно, браться за дело энергично и стремиться к тому, чтобы крупные линии ложились с быстротой молнии».
И странное дело – по мере чтения из этих нервных, отчаянных, прекрасных писем возникал вначале едва осязаемый, но все более внятный образ невысокого светловолосого человека с застенчивой улыбкой, который и в продажах-то картин не слишком преуспевал, так как никогда не убеждал клиентов приобрести картину, не старался повлиять на их выбор… Он и картины Винсента держал у себя дома и в дальней комнате галереи, лишь иногда показывая их друзьям и особо доброжелательным посетителям… Из долгого монолога Винсента возникал образ брата, оставшегося за скобками истории искусства, брата, который не решился стать художником, а может, понимая все о Винсенте, сознательно пошел на жертву и мог бы вообще остаться безымянным, если б не эти письма, исполненные требовательных просьб, яростных жалоб, настойчивых мыслей, профессионально разработанных пейзажей…
С каждым новым письмом Винсента проступал образ Тео Ван Гога, исполненный благородной преданности, и любви, и ласки, – оставшийся единственной надеждой в жизни художника, особенно в жестокую пору безумия накренившегося мира…
* * *
Все два дня, проведенных нами в Вансе, старая карусель на площади пребывала в летаргии. По остроконечной ее веселой крыше стекали струи дождя.
Но и в этом бесконечном дожде высокие узкие витражи в окнах Матиссовой капеллы «Четок» горели изнутри жарким желто-синим светом.
Витражи выплескивали цвет в белое пространство капеллы, их свет вибрировал и скользил в настенных рисунках, черно-белых арабесках, пульсирующих неуловимым ритмом.
Все: от бело-голубой черепицы крыши, с высоким и тонким, как канделябр, крестом на ней, до расписанных самим художником оранжево-желтых, желто-черных, красно-белых, в причудливых иероглифах, одеяний священнослужителей; от томного, изящно распятого Христа до хрупких подсвечников, – было продумано и изготовлено по бесконечному множеству эскизов.
С утра мы бродили по небольшому помещению капеллы, вбирая этот радостный безмятежный свет, и не торопились выходить в непогоду…
– Видишь, здесь создана некая история, как в книге, – иллюстрации на стенах, – говорил Борис. – Матисс как бы разделил два средства изображения – цвет и линию. Он вообще считал, что в основе бытия лежит соотношение арабески и цвета… Пробовал и в картине делать это, но в картине такое разделение не совсем органично самому пространству. А здесь – как в стереомузыке – зрительные импульсы соединяются в капсуле капеллы в некую мистерию, которую Матисс монументизировал. Стихия цвета разделена; но вот ты вошла, и в тебе – в зрителе – она воссоединилась.
– Однако во всем этом изыске чувствуется высочайшей пробы, конечно, но жесткий художественный расчет, – заметила я, с головой погруженная в судьбу совсем иного художника. – И колоссальное душевное здоровье. Хотя ведь он был больным человеком и даже рисовал сидя в кресле?
– Да, но Матисс обладал огромным мужеством и умел оценивать и направлять свои чувства…
Где-то снаружи, за пределами пресветлой капеллы, дождь колотил по деревьям, по зданиям и дороге… Здесь, внутри, – царил белый покой, насыщение желто-зеленым и синим… Радость… Пленительный синтез возвышенного…