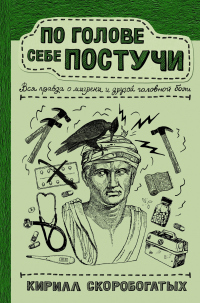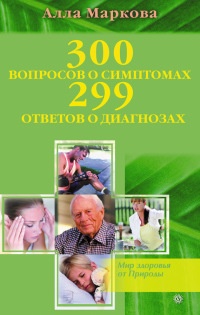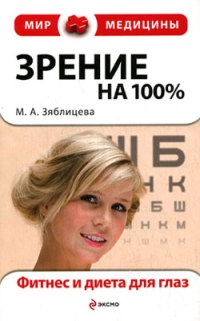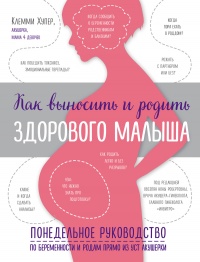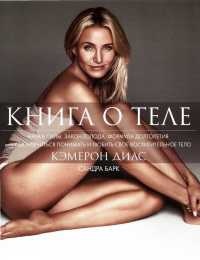Обобщив вышеизложенную информацию, можно понять, что есть множество возбудителей мигрени. Некоторые из них существенны, например дефект открытого овального окна, а некоторых можно избежать, например нитратов. Какие-то триггеры могут показаться вам знакомыми, а какие-то стоит изучить. Индивидуальных различий между ними масса, и универсального решения не существует. Конечно, профилактика лучше лечения, хотя с появлением суматриптана и эренумаба в терапии были достигнуты большие успехи. Оба этих препарата появились благодаря нашему более четкому пониманию того, какие процессы происходят в мозге и теле до и во время приступа мигрени, что привело к нему и в чем особенность «мигренозного» мозга. Что из сказанного относится лично к вам? Вы ведь неповторимы. Вы должны определить свои собственные триггеры, и у вас для этого есть уникальные возможности. Существуют факторы, которые не беспокоят обычного человека, но того, кто склонен к мигрени, делают более восприимчивым к возникновению головной боли. Распознавание того, какие из этих факторов вы можете контролировать, а какие нет, позволит вам успешно противостоять угрозе.
Глава 8. Что дальше?
Если вы в чем-то похожи на меня, то вам нелегко примириться с тем фактом, что до сих пор у нас нет четкого ответа на вопрос, как вылечить и как предотвратить все формы головной боли. В конце концов, если мы можем проследить происхождение этих расстройств в глубинах нашей эволюции, то почему сегодня, через полвека после того, как мы отправили людей на Луну, используя не больше технологий, чем теперь содержится в вашем мобильном телефоне, мы так и не решили проблему с головной болью? Ответить на это сложно, как из-за вещей, которые нам понятны, так и из-за тех, которые мы еще не можем понять.
Давайте сначала подумаем о том, что понятно. Мы многое знаем о головных болях: как они проявляются, что происходит в организме во время их протекания, как люди их переносят. Эта тема порождает все более многочисленные медицинские, клинические и молекулярные научные исследования, так что теперь мы лучше, чем когда-либо прежде, понимаем, что может оказывать влияние на данное заболевание, начиная от молекул, например пептида, связанного с геном кальцитонина, и до физических процессов, таких как деполяризация коры. Конечно, были неудачные начинания и направления, которые зашли в тупик (кому глутамата натрия?), но и они внесли вклад в общее движение к цели, и какие-то наработки были созданы и успешно используются. Однако наука, как и многие другие сферы, например ведение бизнеса, страдает от ситуаций, при которых люди сосредоточиваются только на крошечном пикселе общей картины. Это может создать ложное представление о том, как выглядит картина в целом. Например, смогли бы вы узнать себя, если бы рассматривали квадратный сантиметр на большой фотографии собственного лица? Вы могли бы даже не подумать, что этот квадратик относится к лицу — его с таким же успехом можно было взять со снимка бумажного пакета (что в моем случае намного предпочтительнее). Однако, если вы уменьшите масштаб, станет ясно, что вы смотрите на лицо и что это лицо ваше.
При исследовании головной боли крайне важно, чтобы масштаб, который мы выбираем при рассмотрении общей картины, позволял нам, так сказать, сверяться с целью. Мы должны собрать современных молекулярных биологов вместе с физиологами, специалистами по динамике кровотока (которые изучают, чем вызывается турбулентное и плавное движение крови), программистов, профессионалов в обработке статистических данных, клиницистов, нейробиологов, психологов, физиотерапевтов и даже пациентов, вовлеченных в следующий этап наших исследований. За таким междисциплинарным подходом будущее. Он гарантирует, что мы будем задавать правильные вопросы и интерпретировать ответы с учетом человеческого опыта и реальности. Мы также можем заимствовать знания из других дисциплин. Для меня в этом смысле один из самых поучительных моментов — история открытия, проникшего во множество других сфер, включая изучение мигрени.
Ритм жизни — это мощный ритм
Все началось в конце 1990-х гг. с колумбийского нейрофизиолога Родольфо Льинаса и его коллег из Нью-Йоркского университета. Потратив годы на изучение того, как отдельные нейроны взаимодействуют друг с другом в разных частях мозга и как нейромедиаторы высвобождаются в синапсе гигантского кальмара, Льинас впоследствии сфокусировал внимание на другом. И это прекрасный пример того, как можно изменить масштаб проблемы, над которой вы работаете.
Родольфо увеличил масштаб и перешел от исследования мельчайших процессов к изучению того, как нейроны взаимодействуют во всем мозге. Используя МЭГ, он понял, что у пациентов с болезнью Паркинсона наблюдается паттерн активности, исходивший из моторной коры (область, которая позволяет нам двигаться) абсолютно синхронно с тремором, проявлявшимся у его пациентов: примерно 3 движения в секунду. Однако он заметил ту же закономерность в другом месте мозга, а именно в таламусе, который находится под корой. Таламус посылает и получает связи ото всех частей коры, поэтому так называемые таламокортикальные петли задействованы во всех процессах нашего организма. Поскольку Родольфо интересовался двигательным расстройством (болезнью Паркинсона), он проследил активность двигательной таламокортикальной петли и обнаружил, что таламус задает темп всему, что происходит в коре головного мозга. Оказывается, в любой из таламокортикальных петель могут возникать аномальные ритмы, влияющие на какую-либо функцию, и этот симптом проявляется при разнообразных заболеваниях головного мозга. Таламус посылает к коре головного мозга сигнал на основе тех сигналов, которые сам получает из других источников, поэтому он не обязательно является причиной проблемы, однако его реакция на сигналы усиливает наблюдаемые симптомы.