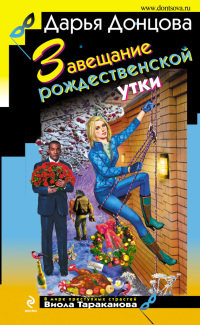1
Дома Гайпель попил чаю с бубликом, прилег не раздеваясь, но заснуть не смог. Все припоминалось, как, когда стояли у подъезда, поджидая Шитковского, Иван Дмитриевич сказал: «Если он помрет, это будет на моей совести. Надо было мне с ним сразу потолковать…» Имелся в виду бедняга Петров. Гайпель по-человечески жалел Петрова, хотел, чтобы тот поправился и назвал бы имя человека, подсыпавшего яд и ему самому, и Куколеву, но одновременно ворочалась мыслишка настолько темная и гадкая, что ее стыдно было додумать до конца. Неоформленная, скользкая, она из глубины души рвалась наверх и наконец явилась во всем своем безобразии: Гайпель понял, что втайне он желает Петрову смерти, чтобы уязвить Ивана Дмитриевича и подрезать ему крылья. Он думал об этом, надевая старую студенческую шинель вместо промокшей полицейской, думал, выходя на улицу, потом ненадолго забыл и опять с ужасом вспомнил, когда в морском госпитале ему сказали, что Петров мертв. Было чувство, что это он, Гайпель, сам же и накликал на него смерть.
Уже начинало светать, дождик кончился. Гайпель миновал шлагбаум при въезде в гавань, прошел мимо барака, где ночью были с Шитковским, и завернул в караулку портовой полиции. Там встретили нельзя сказать чтобы приветливо, но такой прием не был неожиданностью. За год службы Гайпель хорошо усвоил истину, которая поначалу казалась чудовищным абсурдом: простые полицейские не любят агентов и помогать им не желают.
Ничего нового у этой публики узнать не удалось. Услышав о смерти Петрова, пристав сказал с лицемерным вздохом:
— Царствие ему небесное.
Но тут же сбросил маску и добавил, злорадно улыбаясь:
— Что, придется побегать теперь? А?
Как выяснилось, его подчиненные не сочли нужным обшарить порт в поисках преступника. Сейчас иные кушали чай, иные спали разувшись, что было против правил. Отдыхать полагалось не снимая сапог, о чем Гайпель мог бы и напомнить, но не стал. От сохнущих на железной печке портянок воняло, как в зверинце. Гайпелю сесть не предложили, чаю не налили и на все его расспросы отвечали с таким видом, будто он, дурачок, сам не знает, чего хочет.
Наконец пристав сказал:
— Вы ведь давеча вдвоем были. Товарищ-то твой где?
— Ушел, — подумав, ответил Гайпель.
— Ну так и ступай к нему. Он, поди, без тебя скучает.
И еще. какой-то умник с опухшей от сна рожей присовокупил к этому совету древнюю российскую философему:
— Утро вечера мудренее.
Похоже было, что у этих людей вечер начинался сразу же после завтрака.
Гайпель плюнул и вышел на воздух. Вдали голодными голосами кричали чайки, ангел на шпиле Петропавловской крепости проступал сквозь рассветный туман, но никто больше не взывал к нему из бездны отчаяния.
Шлагбаум у ворот был опущен, караульный инвалид сидел в своей будке. От него тоже мало чего удалось добиться.
— Как же, ваше благородие, — говорил он, — я вам скажу, кто тут с вечера проходил или проезжал, коли вы сами не знаете, кого ищете. Много было всяких, но то ведь люди, не кораблики. Их в журнал не записывают.
Тем не менее этот человек, в отличие от полицейских, свою ответственность понимал. Он бы и рад был помочь, да не мог.
— Конечно, конечно, — соглашался Гайпель, — к тебе претензий нет. Я лишь спрашиваю: никто, как бы это сказать, не остановил твоего внимания?
— Я на Кавказе был, под Севастополем был, — отвечал инвалид, — на земле помирал два раза, тонул, в сакле горел. Я, ваше благородие, турку видал, черкеса, британца, Казбек-гору, три моря, мужика с хвостом…
— Обожди, обожди-ка…
— Через это все я сильно равнодушный стал, ничему не удивляюсь. Чтобы мое внимание заслужить, тут уж знаете, кто быть должен?
— Ну кто? — устало спросил Гайпель.
— Негр, не меньше.
— Что ли, здесь негров на кораблях не бывает?
— Полгода стою, а один только и попался.
— А дама какая-нибудь вчера вечером не проезжала? Часиков этак в десять?
— Барыня? — уточнил инвалид. — Вот так бы сразу и спрашивали. Была дамочка.
— Ну же! — понукнул его Гайпель. — Чего замолчал! Из себя какая?
— Не скажу, не запомнил. Темно было.
— Молодая?
— Все они таперича для меня молодые.