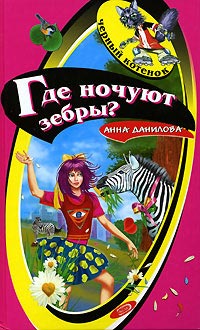старости лет, но все-таки зажимал на репризе правую руку, и за худшего, наверное, самого худшего ученика за больше чем сорок лет педагогической практики, который свалился на ее больную голову, и ноги, и все остальные части тела. Только бы он сыграл эту несчастную сонатину, только бы сыграл. Конечно, она переведет его во второе полугодие, со скрипом, но переведет, на себе перенесет, если понадобится, и в четвертый класс тоже, а может, и вообще дотянет до выпуска, потому что не было еще таких детей, которые бы у нее не заиграли. Не было и не будет.
Концерт вели директриса и Гефтер. Алла Андреевна, с еще более высоким, чем обычно, начесом, сверкала со сцены хрустальной брошью на длинном, черном платье. Гефтер, как всегда, в тройке и при галстуке, по такому случаю попытался зачесать кудри назад и выглядел немного нелепо. Рояль, дважды протертый утром, торжественно блестел, а рядом утопала в шарах и гирляндах новогодняя елка, которую Алла Андреевна лично перенаряжала вчера вечером, принеся коробку украшений из дома.
– И вновь в нашем зале звучит музыка, – протянула, почти пропела директриса. – Та царица, которая покоряет сердца даже самых холодных слушателей.
Зал зааплодировал, зашелестел букетами цветов. Родителей и родственников пришло так много – шутка сказать, иностранная делегация, – что сердобольным папам и дедушкам пришлось обходить кабинеты первого и второго этажей и доносить еще несколько рядов стульев.
Ученики толпились за кулисами. Овсянкиных детей можно было распознать сразу, и не только по печати страдания или таланта – у кого как, – застывшей на лице, но и потому что все они были в перчатках и в варежках, будто из одного инкубатора. Перед выступлением пальцы следует держать в тепле, уж доверься моему опыту, твердила Олимпиада Викторовна, нужно было обеспечить то ли кровоприток, то ли кровоотток, это уже было неважно, лишь бы только она отстала. А еще вчера она привела их всех в актовый зал и заставила по два раза проиграть всю программу, чтобы пальцы привыкли к незнакомым клавишам.
Сначала шли первоклашки – все сплошь в белых бантах, – восторженные и трепещущие. Отыграли свои вальсы, менуэты и «Савку с Гришкой». Потом просеменили скрипки. Наконец вышла маленькая, худенькая девочка, совсем еще пигалица, и, разведя ноги, с трудом просунула между ними виолончель и яростно запиликала, будто пыталась отрезать кусок хлеба или сыра, но нож был таким тупым, что у нее никак не выходило.
Французы широко улыбались, громко хлопали, а один из мужчин постоянно щелкал диковинным заграничным фотоаппаратом. А вот тетки из роно время от времени шептали что-то друг другу на ухо и делали пометки в папочках, чем страшно нервировали преподавателей.
В закулисной сутолоке Гриша долго не мог отыскать Олежку, а потом наконец разглядел его в дальнем углу, на скамеечке. Тот накручивал волос на смычке, вид у него был хмурый. Несколько дней назад заболела Олежкина бабушка, маме пришлось уехать к ней в Калинин, и на концерт она никак не успевала. Вместо мамы в качестве группы поддержки, как выразился папа, он притащил тетю Лиду с дядей Сережей. Они сидели в самом последнем ряду, и пока дядя Сережа читал программу, висящую на стене, папа что-то нашептывал тете Лиде, улыбаясь в усы, а та смеялась, запрокинув голову назад, и прикрывала рот ладошкой. Это окончательно испортило Олежке настроение.
– Ты чего такой грустный? – спросил Гриша. – Волнуешься?
– Ничего я не волнуюсь, – пробормотал Олежка, даже не подняв на Гришу глаза.
– А я волнуюсь. Все время сбиваюсь с темпа, никак не получается аллегро.
Олежка промолчал, только со злостью принялся канифолить смычок.
После громких аплодисментов Алла Андреевна простукала каблуками по сцене и, взмахнув папкой, объявила, что выступают вторые классы.
Мимо Гриши на сцену тяжелой поступью вышла толстая Леночка. Ее пышные длинные волосы были заплетены в аккуратную, тугую косу, перевязанную белым бантом. Леночка бережно протерла клавиши фортепиано тряпочкой, положила пухлые руки на белые колготки и посидела несколько секунд молча, чтобы собраться с мыслями, настроиться и пропеть про себя первую фразу пьесы, – вот она, Овсянкина школа. Леночка взмахнула руками над клавишами и зарядила все ту же несчастную умирающую куклу.
От нечего делать Гриша высунул голову из-за занавеса.
Мамы не было. Она позвонила днем, извинялась, но сказала, что отлучиться сегодня с работы никак не сможет – ей поручили сдать материал, самой, да еще на третью полосу! «Гриша, ты понимаешь, не вычитывать, а самой писать! Разве я могу упустить такой шанс?» – воскликнула мама таким радостным голосом, какого Гриша давно не слышал.
Зато в зале была бабушка. Она сидела нарядная, в плиссированной юбке и парадной укладке, с макияжем, страшно гордая и довольная. Гриша помахал ей рукой, но она его не заметила.
А вот Овсянка сразу поймала его взгляд и состроила грозную мину. Гриша посмотрел на нее вопросительно – ну сейчас-то что? Овсянка многозначительно округлила глаза и принялась жестикулировать. Вот она изобразила, как что-то маленькое падает с одной руки на другую – это, конечно, же была капля росы. Вот развела руки и стала дирижировать: резво, сердито, это, очевидно, означало аллегро. Потом взяла себя за локоть – не зажимай. Наконец она подняла указательный палец и несколько раз постучала им по ручке кресла. «Ты у меня сыграешь, Гриша, ты у меня сыграешь!»
Нет, не сыграю, вдруг пронеслось у Гриши в голове. Решительное нет. Скажи решительное нет! Действительно, почему всем вокруг можно? Девочке в красной шапке, маме, папе, мужчине с плакатом, а ему, Грише, – нельзя?
Он вернулся за кулисы.
– Пошли отсюда, – прошептал он Олежке.
– Как это «пошли»? Нам же скоро выступать.
Гриша посмотрел на него решительно.
– А ты никогда не хотел сбежать отсюда?
– Хотел, конечно, – хмыкнул Олежка. – Кто ж не хочет…
Гриша развел руками и шмыгнул в сторону маленькой комнатки уборщицы, которая вела из-за кулис в коридор.
Из окна первого этажа одной из лучших музыкальных школ столицы сладостно лилась музыка. Сильно опережая учебную программу, Дима Фельдшеров исполнял сонату-партиту Гайдна до мажор, известную своей сложной техникой и психологизмом, и почти не зажимал правую руку.
На улице было по-зимнему темно, в уютном свете фонарей медленно падал крупный снег. А неподалеку, прижавшись друг к другу, чтобы уместиться поверх футляра, внутри которого клокотала новенькая польская скрипка, неслись с ледяной горки два мальчика. Неслись живо, радостно, весело, даже не аллегро – виваче.
Ножки Буша
Бабушка приехала умирать. Маша поняла