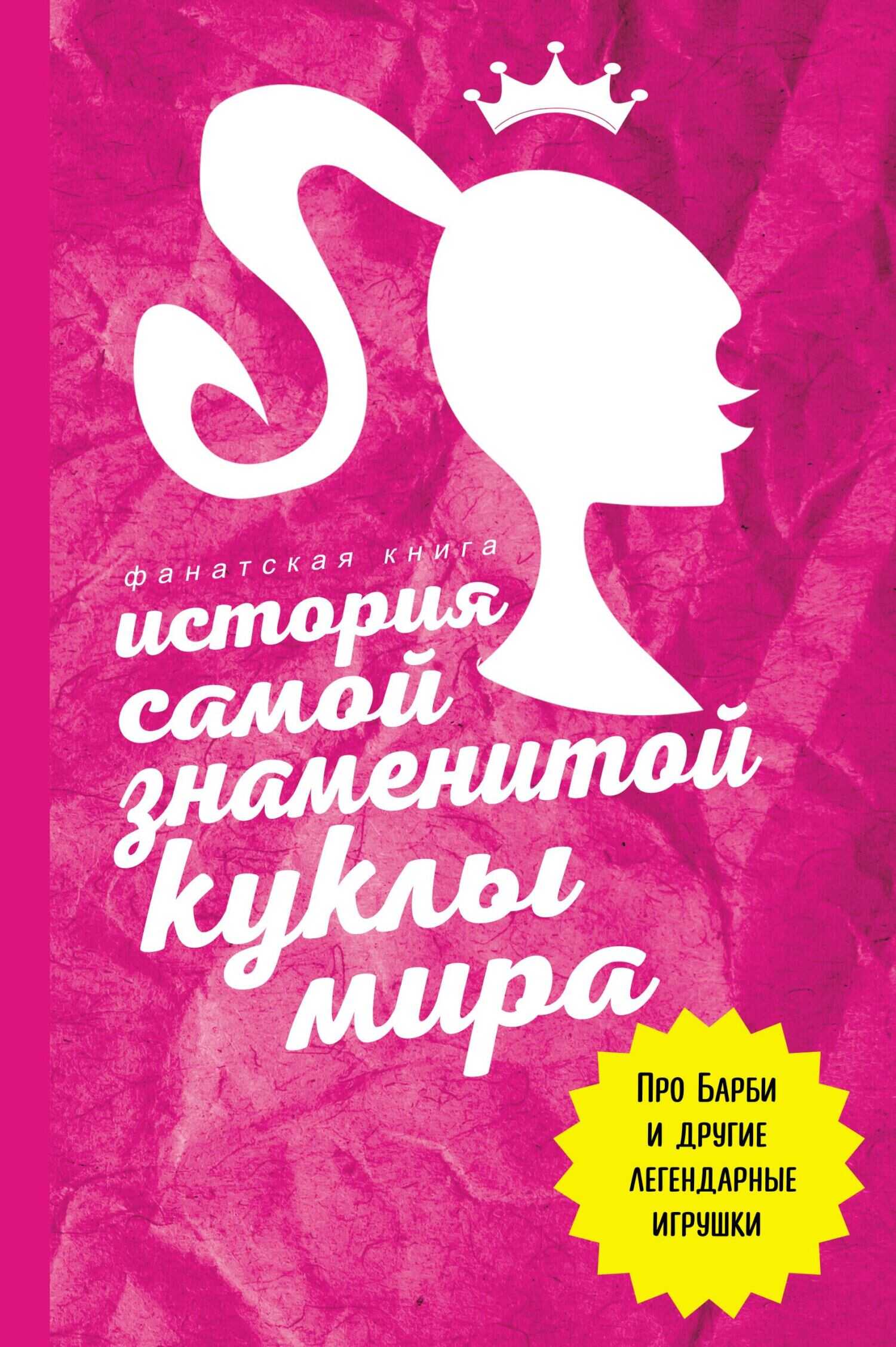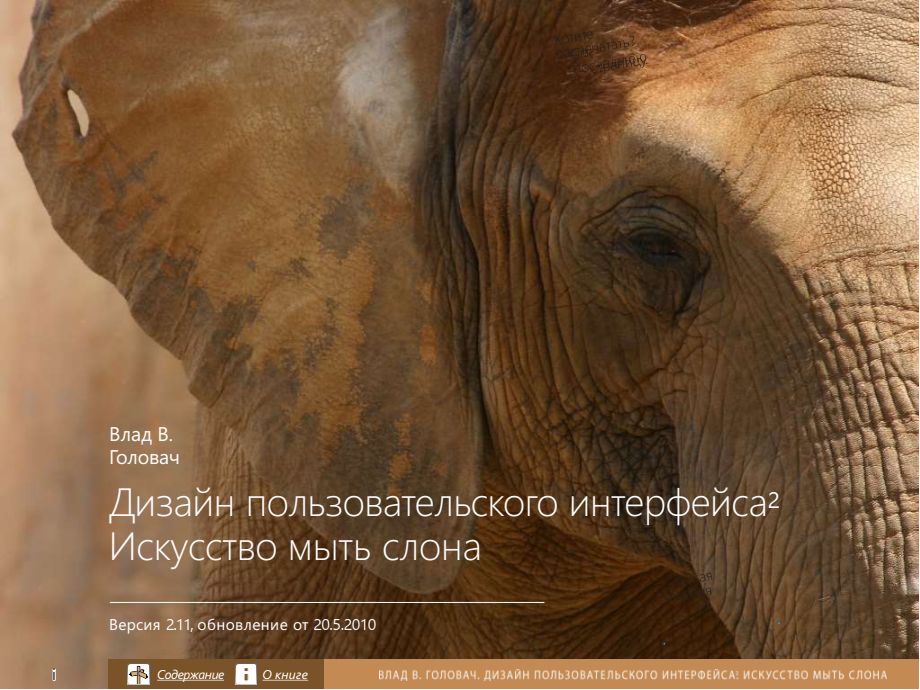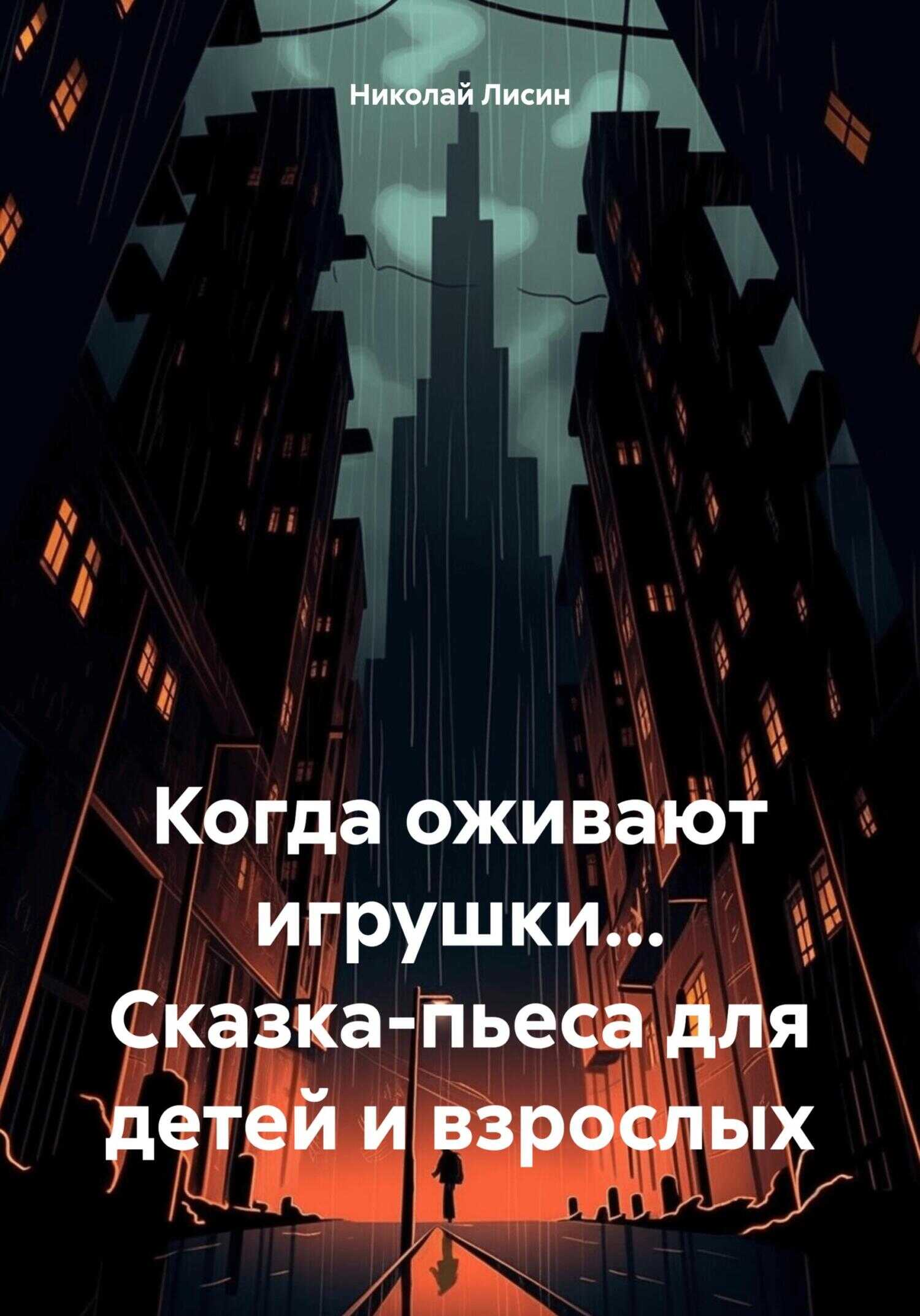поры считалось, что дети не обладают знаниями, опытом и правом на покупку.
По мнению ученых, среди которых Эллен Сейтер, Дэвид Бэкингем, Генри Дженкинс и Эллисон Пью, «наделенный силой» ребенок, получив автономию, право самовыражения и способность принадлежать к группе себе подобных, становится практичным и разборчивым потребителем медиатекста, а вовсе не наивной жертвой рекламы, которую транслируют совратители от рынка игрушечной индустрии[40]. В современной литературе (как и в нескольких статьях нашего сборника: см. текст Колина Фэннинга о LEGO и текст Линетт Таунсенд о самодельных бумажных моделях) неоднократно подчеркивалось, что дети творчески обращаются с медиапродуктами и товарами потребления, дорожат выброшенными предметами, которые потеряли свое значение для взрослых, и приписывают взрослым вещам свои системы значений[41]. И все же сторонники идеи «эксплуатируемого ребенка» полагают, что за мнимую «власть» ребенку-потребителю приходится платить слишком большую цену. Антиэдалтистская риторика позиционирует всю детскую медиакультуру (вместе с рынком рекламных и торговых посредников между детьми и родителями) как вредную для детско-родительских отношений, а стало быть, и для эмоционально-психологического развития детей[42].
Также широко обсуждается роль семейных телевизионных передач, которые порой неотличимы от рекламы и насыщены «взрослыми» отсылками к сексу, насилию и алкоголю[43]. Нил Постман в книге «Исчезновение детства» оспаривает утверждения исследователей массовой коммуникации, по мнению которых подобные смещения границ наделяют ребенка силой, интегрируя его желания в сферу рынка. Как считает ученый, все это ставит под угрозу отделенность детства от зрелости, которая лежит в основе этих понятий[44]. Постман предрекает упадок культурной традиции «невинного детства», который станет результатом вредного воздействия телевидения на семейную социализацию. Детей «взрослит» участие в транслируемой через интернет, телевизор и кино популярной культуре, которая полна насилия и секса. И по мере того как детская культура и одежда все больше заимствует из мира взрослой и подростковой популярной культуры, современное общество «вышвыривает нас обратно в Средние века, где дети были развиты не по годам, а взрослые по-детски невинны»[45]. Но новейшие исследования детских средств массовой информации противостоят пренебрежительному отношению Постмана к телевизору и популярной культуре. Эти исследования показывают, что дети способны преодолевать смыслы, порожденные массовой культурой. А некоторые детские медиа, такие как, например, мультфильмы (считается, что они воплощают «дурной вкус», проницая культурные и социальные границы родительского общества), предоставляют детям возможность выйти из-под взрослого надзора и объединиться со сверстниками[46]. И все же многие эксперты подвергают сомнению роль внешних сил (в том числе средств массовой информации) в том, что сегодня детство так сильно коммерциализировалось. По их мнению, этот процесс связан c противоречивыми практиками потребления самих взрослых. Наряду с появлением представлений о «бесценности» ребенка увеличились расходы на игрушки, которые воплощали желание взрослых через потребление вызвать у ребенка невинное ощущение волшебства. Это желание возникло как раз в тот период, когда ребенок перестал играть роль полезного труженика в домашнем хозяйстве. Но поскольку семейный доход страдал от подобных трат, то этот суррогат заботы заменил собой внутрисемейную социализацию. Гэри Кросс пишет, что повсеместная тревога, вызванная якобы растущей коммерциализацией детства, объясняется противоречивым поведением самих родителей и других взрослых в послевоенный период, когда чувства, призванные скрепить семейные узы, «нашли свой выход в потребительских расходах»[47]. С одной стороны, взрослые продолжали покупать новые игрушки, чтобы вызывать у ребенка чувство невинного волшебства и через детский восторг вновь пережить свое собственное детство. С другой, когда поддержание и продолжение этого невинного волшебства стало требовать все большего числа покупок, взрослые почувствовали разочарование.
Эта путаница, касающаяся материального мира детства (когда дети одновременно являются и главным стимулом чрезмерного потребления, и главным предостережением от него), во многом возникла из-за того, что изготовители игрушек попытались обратиться к детям напрямую из телевизора. Начиная с 1950-х годов, но особенно в 1980-е и позднее, детское «выклянчивание»[48] решили использовать как инструмент влияния на родительские паттерны потребления и тем самым преодолеть их сопротивление модным, некачественным игрушкам. Из-за рейгановских назначений в Государственном комитете по телевидению, радиовещанию и связи США отсутствие контроля над рекламой и детскими передачами в 1980-х годах привело к новой маркетинговой стратегии. Телевидение стало использоваться для наполнения рынка рекламными игрушками-персонажами, одеждой, закусками, ювелирными украшениями и множеством других лицензированных товаров[49]. Возникла целая категория мультсериалов, сделанных для синдикации (то есть права на их показ продавались разным телеканалам). Эти сериалы, так называемые PLC[50], полностью уничтожили разницу между рекламным объявлением и развлекательной передачей. Это были тридцатиминутные ролики, где в главных ролях выступали товары из линейки игрушечной компании — спонсора. Подобной формулой успеха воспользовались такие компании — производители игрушек, как Mattel (мультсериал «Хи-Мен и властелины вселенной», «Ши-Ра и непобедимые принцессы»), Hasbro (линия игрушек GI Joe и My Little Pony), Kenner (анимационные сериалы «Заботливые мишки» и «Шарлотта Земляничка») и Playmates («Черепашки-ниндзя»). Наряду с PLC появились и распространились лицензированные мультимедийные товары, сразу заменившие собой рекламу[51]. Важно отметить, что популярность подобной игрушки-персонажа (как правило, миниатюрной пластиковой фигурки) никак не была связана с присущими самой игрушке дизайнерскими свойствами. Дети вкладывали в персонажа смысл, сюжет и отношения, полученные из метанарратива: фильма, передачи или комикса[52].
Но у рыночных стратегий PLC был предшественник. Новейшие исследования детства и потребительской культуры оспорили не только представления о том, что ребенок-потребитель впервые появился как побочный эффект послевоенных телепередач, но и всю упрощенную бинарную модель «жертвы» и «сильного потребителя». С конца XIX — начала ХХ века появились печатные рекламные кампании, которые создавались с расчетом на детей. Они должны были сформировать лояльность к брендам и будущие паттерны потребительского поведения. А потребительское общество, существовавшее к тому времени уже несколько десятилетий, назначило детям судьбу изготовителей, распространителей и покупателей игрушек[53]. Принципиально важным для возникновения фигуры ребенка-потребителя стал период потребительской демократии в США 1920–1930-х годов. Появился новый жанр журнальных объявлений, стимулирующих рекламных программ и радиоклубов, которые взращивали «ребенка-лоббиста» (членские карточки воображаемого мира, дешифратор в виде кольца, тайные языки, наделяющие слабых особой силой). Эти программы обучали детей, желающих влиться в коллектив сверстников, как выпрашивать игрушки у родителей[54]. Стараниями продавцов, стремящихся угодить мельчайшим детским желаниями и нуждам, были учреждены фазы жизненного развития. Прекрасный пример этого — слово toddler («ходунок»), которое возникло как название размера одежды, затем стало обозначать товароведческую категорию, а потом и социального субъекта. Еще один пример — возникший не так давно рынок «tween»-товаров («предподростковых»)[55],[56]. Все это доказывает, что детство и культура потребления взаимно формируют друг друга,