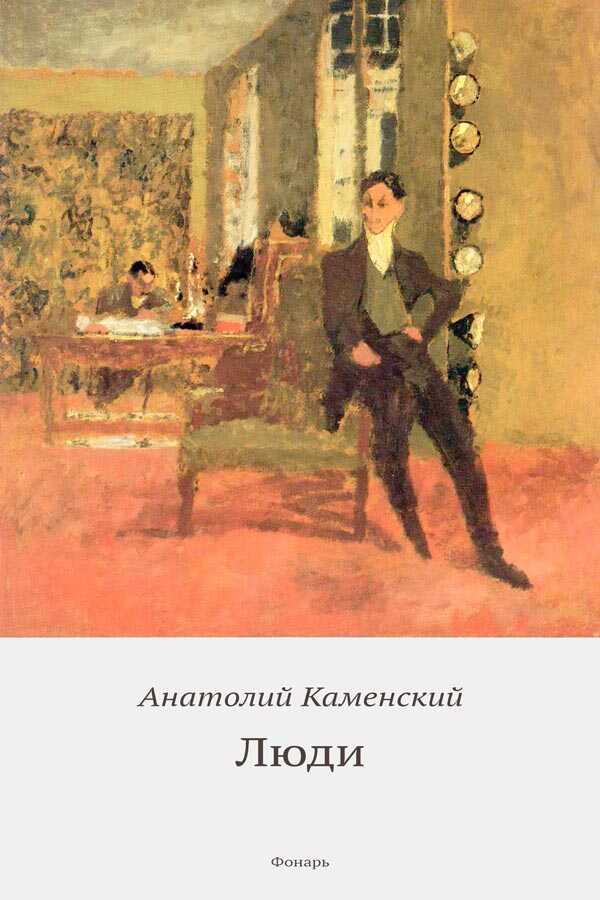Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 30
Чечню?
– Думаю, никто бы не хотел снова Чечню.
– Дак и я не хочу. Давай я лучше про клуб. Ну, веселее будет. Интересно?
– Рассказывайте.
– Смотри, короче… – Вадим потер руки, как муха. – В школе я с девочкой заобщался. Карина вроде. Ты не смотри так, умею я с девочками общаться!
– Я не смотрю.
– Ага, конечно. Умею, меня вообще девочки любят. Вот познакомился я с Кариной. А она, ну, подработка такая была, танцевала как раз, пол-дэнс, вот это вот все. Она меня и отвела. Так-то меня не пустили бы, конечно.
Гранкин щелкнул ручкой. Записал «Карина». Подумал. Записал «пол-дэнс».
– А сколько вам было лет?
– Четырнадцать, что-то такое. Пришли мы, в общем. И я посидел там, посидел-посидел, мне даже выпить предложили, но я не пил тогда принципиально, бросил.
В клубе было дымно и приторно, пурпурно, глянцево. Громыхала музыка, и казалось, что сами кости от бочки вибрируют. Смотреть на девчонок Вадиму было как будто немножко зазорно: они могли посмотреть в ответ, а Вадим, пусть и ходил уже без зубных пластин, был полноватым грушевидным подростком, облепленным мелкими-мелкими прыщиками, которые еще и не выдавить, потому что не созрели. С одноклассницами проще было: они сами такие, к тому же одетые, белый верх, черный низ.
Теперь казалось странным вот так просто подойти к Карине. Вадим аккуратно вложил билет банка приколов за резинку ее трусов сбоку и спросил:
– А ты можешь меня к главным провести?
– А зачем тебе? – Карина откинула спину и посмотрела перевернуто, сплошными блестками маминых теней, крошками туши, комочками помады на покусанных губах. Деревянные от лака кудри упали на Вадимову коленку. – Там такие люди серьезные… Сожрут.
– Надо. Отведи, а?
Карина и без каблуков была выше на полголовы, а в прозрачных копытах совсем терялась головой в тумане. Ее голый бок светился теплом, стыдом, неоном. Из темноты пупка выглядывала сережка, как скользкая голова моллюска из раковины. Вадим почти взял Карину за талию, хотя куда там – переплел руки в узел и нахохлился в вороте свитера.
– Пришли. Дальше сам.
Вадим открыл двери сразу обеими ладонями, оставляя на глянце следы пальцев. Коготь – это Вадим потом уже узнал, что его зовут Коготь, – закашлялся дымом сигары и потушил ее о лацкан лоснящегося бордового пиджака.
– Вадим Вадимович?..
– А как же он ваше имя знал? – спросил Гранкин, поворачиваясь на офисном стуле и смахивая пепел с блокнота. – Если вы тогда не знали, что его Когтем зовут?
Вадим фыркнул, скукожив нос:
– Так Марина ему рассказала. Предупреждала же, кого ведет, чтобы секьюрити не выгнали.
– Марина или Карина?
– Марина, конечно. Я ж говорю, Марина, девица такая, как пирожочек с маком, бати у нее не было, вот она стриглась под пацана и танцевала гоу-гоу. Жопой слушаешь?
И после той встречи поперло – Вадим пожал Когтю огромную красную ладонь, и в кабинете теперь оба они сидели, оба в лоснящихся пиджачищах, оба с сигарами. Уроки Вадим, конечно, прогуливать начал – какие уроки, когда к тебе лично приходят такие же пиджачные дяди с чемоданами долларов, три чемодана Вадиму, два Когтю? Тут не до уроков.
Марина кофе носила. И спрайт, потому что крепче Вадим не пил – бросил. И Вадим за спрайт прихватывал ее ласково за попу, оборачивал вокруг резинки трусов не банк приколов, а настоящие шершавые баксы. Баксы ему нравились – ласково лизали руки, когда Вадим, взрывая ботинками паркет, ругался в забитую в ухо гарнитуру: «Что значит – нет? Что значит – завтра? Завтра твои кишки, мой хороший, увидит все Чикаго!» Все Алтуфьево, в смысле. Это Алтуфьево тогда местные жители начали называть Чикагом.
Какое-то это было марта, какое-то гадкое снежное марта. Коготь носился на четырех лапах как боров, и так же хрюкал от напряжения, пряча баксы под взрытый паркет. Секьюрити выводили из комнат голых девчонок под руки, а клиентов – под зад и через черный ход. Уборщица Клара Матвеевна смахивала пипидастром сигарный пепел и следы всякой «запрещенки». Вадим, небрежно умывшись, выдавив два прыща и носком ботинка загнав под мусорку присохший гондон, вышел из туалета.
– Я разберусь. – Он покрепче натянул шляпу.
Дорога до выхода из клуба – длинная диагональ, где с каждым шагом громыхание двери становилось все отчетливее и все больше напоминало бронхитный кашель. Дверь дрожала, и Вадим легонько хлопнул ее повыше ручки – не ссы, родная.
– Кто там? – спросил Вадим.
– Ваша ма-а-ама пришла, – высоко и смешливо ответили с той стороны.
И Вадим открыл. Ну а что было делать?!
Через щель двери сначала тоненько запищал, потом засвистел, потом загудел ветер. Многосуставные тощие руки оказались сразу везде – полапали стены, оставили полосы на пыльном полу, поправили юбки кое-как одетым девчонкам.
Мент улыбался желтенько, жиденько, гаденько:
– Здравствуй, Вадик! А нам замечаньице пришло на ваше заведеньице.
Когтя посадили: конечно, не убежать от мента такому пузу. А Вадим скрылся – в Москву переехал и лег в психушку. Вот так.
– Подождите… – Гранкин пролистал несколько страниц блокнота. – Вы ведь говорили, что клуб в Питере? А в Чечню вас из Москвы забирали?
– Нашел чему удивляться. Люди иногда города меняют. Я всю среднюю школу в Питере жил.
– Вам было четырнадцать, когда клуб закрыли?
– Уже семнадцать.
– А сейчас девятнадцать. А два года вы чем занимались?
– Работал в «Почте России». Дубина, блин. – Вадим рассмеялся тихо, незлобно. – Говорил же.
Гранкин вошел в кабинет Сергея Викторовича не здороваясь и прыжком уселся на свой батарейный короб. Достал мятую сигарету, скрюченную так, что табак с головки ссыпался в пачку. Пощелкал зажигалкой, поматерил зажигалку, прикурил. Выдохнул в окно.
– Это не шизофрения.
– Если бы у тебя была шизофрения, я бы первый понял, – ответил Сергей Викторович из бумажного шороха.
– Да не у меня.
– Гер, кури в окно, а?
– Извините. Не у меня, у Борщевикова. Вот не верю.
Сергей Викторович даже шуршать перестал – повернулся вместе со всем вращающимся креслом:
– Ты лампочкой догадался или аргументы есть?
Гранкин слизал с губ сухую горечь. Поправил очки. Протащил взгляд меж влажных кирпичей Свиристелева к небу – почти чистому, электрически-синему, темному.
– Нет там никаких четырех «А»[1], там и одна «А» еле-еле… Может, от армии косит, придуривается?
– И так непризывной. «Вэшка» стоит по астме. У матери спрашивал.
– Да что ж такое-то?!
Сергей Викторович сочувственно посмотрел на лохматую бумажную стопку, прихлопнул ее по макушке и театрально рубанул:
– Поехали пить. Пятница.
И нельзя было, конечно, так часто ездить на пассажирском в машине завотделением. Лидия Павловна могла выйти, и вообще. Сергей Викторович ничего не стеснялся – любимчики и любимчики, потому что толковые и делать что-то хотят, – а Гранкину статус «любимчика» неизменно отдавал чем-то тухлым. Но лучше в пятницу вечером быть и пить в баре и с кем-то, а не дома, в непобежденном одиночестве.
– Ну скажешь тоже, старый он. Вот я – старый, – рассмеялся Сергей Викторович, даже шестое пиво умудряющийся пить в той же позе, что и дневники заполнять. Прямой и весь застегнутый.
– Вы не старый.
Гранкин не врал – чего уж о возрасте врать, не женщина ведь. Он сам не сверял по паспорту, но вряд ли Сергею Викторовичу было больше пятидесяти. Это, может, щедро даже – с его залипшими под глаза морщинами и врезанными в лоб складками бровей верхняя половина лица казалась старше нижней.
– Рассказывай больше! Знаешь, чем я в твоем возрасте занимался?
Сергей Викторович замолк. Обычно такие вопросы риторическими называются – а он как разрешения ждал.
– Уже страшно.
– Ординатором в Свиристелева был, вот чем. Но чуть помоложе – на лече еще, – по-моему, ни одну пару к пятому курсу не посещал. Жил у друга, из общаги поперли. И бухал просто по-черному. А теперь все уже, полбутылки вина и баиньки. И утром с квадратной головой.
– Утром и я с квадратной головой.
– Все уже, спился. А пьем-то почему? Потому что жизнь невыносима, Гер. И врачом быть по-хорошему невыносимо, а мы с тобой мазохисты. Мне в какой-то момент вообще было признаться стыдно, что я на врача учусь. Думал отчислиться даже, но родители бы убили. И знаешь, что я делал?
И снова застыл – одобрения ждал. Будто нужно было переложить на кого-то ответственность за рассказывание таких историй.
– Так?..
– Приходил
Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 30