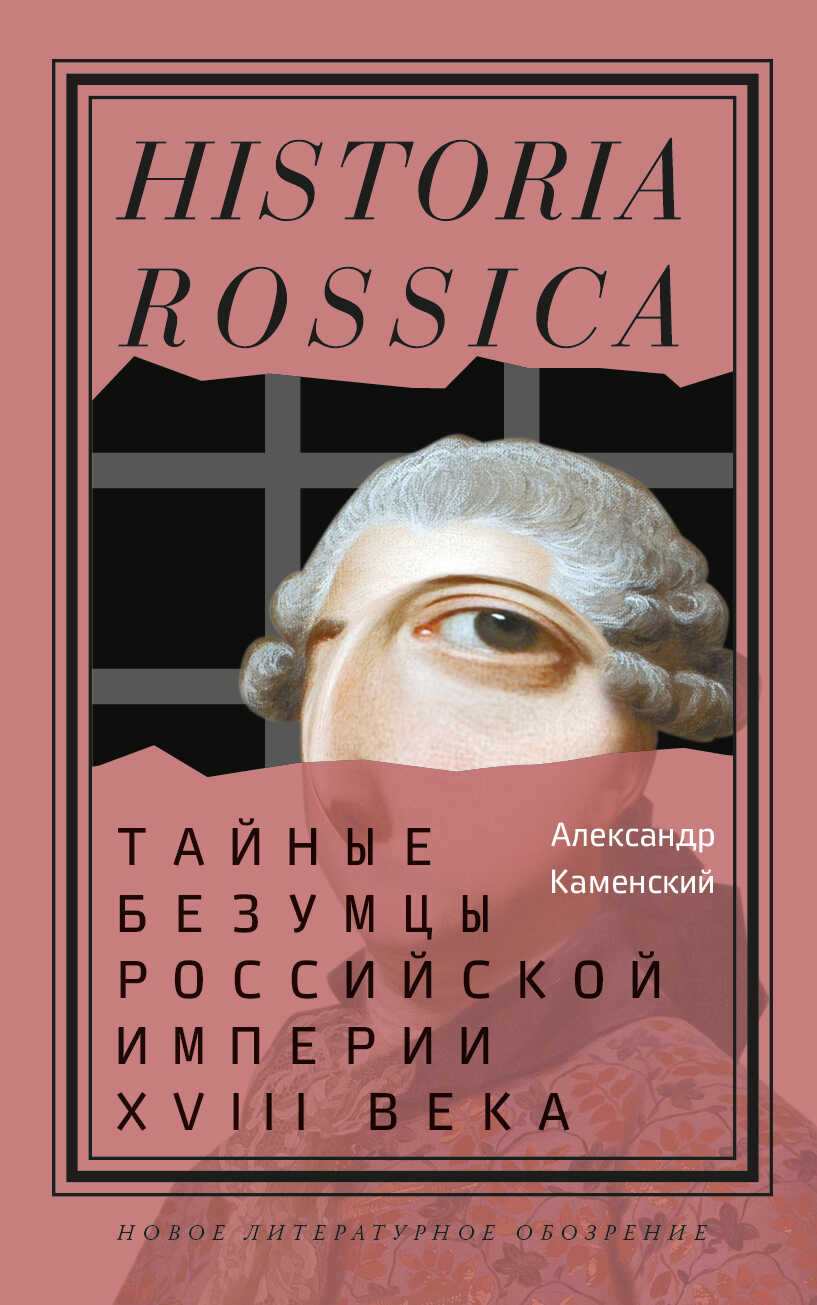1800 г.
Ну, а как сложились судьбы детей Воейковых? Старшая дочь Наталья еще в 1788 г. была выдана отцом замуж за Михаила Алексеевича Дурново, который в 1792 г. имел чин капитана. В феврале 1789 г. у этой пары родился первенец – сын Алексей, впоследствии женившийся на старшей сестре А. С. Грибоедова Марии. Два года спустя у четы Дурново родился второй сын, Михаил. Вторая дочь Воейковых Анна вышла замуж за Якова Ивановича Полонского. Детей в этом браке, видимо, не было; в 1816 г. Анна умерла, и позднее Полонский женился вторично. Жену родившегося в 1780 г. Павла Воейкова звали Авдотья Николаевна, ее девичья фамилия была предположительно Субочева, и в этом браке родилось несколько детей.
Младший сын Воейковых Иван был женат на Варваре Дмитриевне Мертваго, которая, если верить генеалогическим данным, была моложе его на 30 лет и родила двоих сыновей. Она умерла в 1848 г. в возрасте 36 лет, лишь на год пережив мужа. Старший сын, член-корреспондент Императорской Академии наук Александр Иванович Воейков (1842–1916), считается основоположником российской климатологии. Еще более знаменит младший – Дмитрий Иванович (1843–1896). Предводитель дворянства Сызранского уезда, председатель самарского Дворянского банка и какое-то время управляющий делами Министерства внутренних дел, он более всего прославился как основатель российской асфальтовой промышленности. Асфальтом, произведенным на его заводе в с. Батраки Сызранского уезда[13], покрывали мостовые Москвы и Петербурга, и в 1878 г. асфальт с клеймом «братья Воейковы» получил медаль на всемирной выставке в Париже. Небезынтересно также, что в 1872 г. Дмитрий Воейков организовал уездный съезд учителей, а его основным помощником в этом мероприятии был не кто иной, как И. Н. Ульянов. Вряд ли кто-то мог предположить, как скажется на судьбах потомков Воейковых роль, которую сыграл в истории России на тот момент двухлетний сын Ульянова Владимир, но сведения об этом можно почерпнуть из публикаций писем значительно пережившей Дмитрия Ивановича Воейкова его жены Ольги Александровны Толстой-Воейковой, изданных их правнучкой, известным французским литератором, профессором Сорбонны и автором книг о России Вероникой Жобер[14]. Другой источник – воспоминания их внучки, известной писательницы Н. И. Ильиной[15].
О самой младшей дочери Федора и Александры Воейковых Елизавете известно, что она была замужем за каширским помещиком Никанором Ивановичем Челищевым. Сведения об их потомстве отсутствуют. Зато гораздо больше мы знаем о старшем сыне главных героев этой публикации – Александре Федоровиче, причем не только о его литературной деятельности, но и человеческих качествах. Получив образование в пансионе Московского университета, о котором его мать в своем прошении Екатерине II отзывалась как о «преподлом» и где, по ее словам, его постоянно мучили и секли, он затем несколько лет был на военной службе – сперва в лейб-гвардии Конном полку, где когда-то служил его отец, а затем в Екатеринославском кирасирском. В 1806–1807 гг. он командовал рязанской милицией, а в 1812 г. вступил в ополчение и состоял при рязанском гражданском губернаторе, будучи, по-видимому, рязанским помещиком и, как старший сын, унаследовав там часть отцовского имения. В 1814–1820 гг. преподавал в Дерптском университете, но, по утверждению его биографа А. М. Пескова, «профессорская карьера Воейкова не сложилась: против людей, которых он не любил, Воейков действовал, не раздумывая над средствами их дискредитации (используя в т. ч. и доносы), что вызвало резкую неприязнь к нему со стороны университетских коллег»[16]. Далеко не однозначной была и его репутация в литературных кругах. С одной стороны, Александр Федорович умело поддерживал и использовал себе на пользу отношения с наиболее известными поэтами и литераторами своего времени, с другой – отличался «крайней неразборчивостью в средствах ведения полемики, доходившей до прямых доносов»; его отличала «любовь к мистификациям, склонность к лукавому юродству и хитрости»[17]. В 1814 г. Воейков женился на Александре Андреевне Протасовой, воспетой В. А. Жуковским в балладе «Светлана», прожил с ней 14 лет до ее смерти и имел от нее трех дочерей и сына, но склонность к спиртному, а также «неуравновешенный характер и привычка не сдерживать себя перед слабейшим коверкали жизнь домашним»[18]. Через 10 лет после смерти жены Александр Федорович женился вторично – на мещанке Александре Васильевне Деулиной[19], с которой у него была многолетняя связь и внебрачные дети. Остается только гадать, унаследовал ли А. Ф. Воейков неуравновешенность и другие не слишком приятные черты характера от отца, явились ли они следствием не самого счастливого детства или были приобретенными[20].
В истории потомства Федора и Александры Воейковых есть одна загадка: некоторые генеалоги, начиная с их родственника Ювеналия Воейкова, приписывают им еще одну дочь – Екатерину, в замужестве Елагину, якобы родившуюся в 1788 г. Однако, скорее всего, это ошибка, ведь Александра Игнатьевна в своих прошениях настойчиво говорит о шести детях, да и вряд ли еще один ребенок мог появиться в самый разгар семейного конфликта, когда супруги уже три года жили отдельно. Разве что это была дочь их разлучницы Екатерины Несвицкой.
За кулисами
Независимо от того, в какой степени соответствовали действительности содержащиеся в прошениях Воейковой сведения, сами они уникальны не только своим объемом, но и языком, лексическим богатством, стилистическими и риторическими приемами. Используемая при этом аргументация – просительница взывает к дворянской чести, благопристойности, долгу по отношению к детям, святости брака, родительским чувствам – примечательна с точки зрения системы ценностей российского дворянства в конце столетия. Не менее интересны и подкрепленные многочисленными ссылками на законодательные акты апелляции к законности, правосудию, демонстрирующие правосознание автора прошений. Наконец, как уже упоминалось, прошения Воейковой приоткрывают завесу над механизмами принятия решений, патрон-клиентскими связями и – более широко – над взаимоотношениями в дворянской среде екатерининской России.
При первом знакомстве с прошениями Воейковой возникает вопрос, писала ли она их сама, продиктовала или заплатила кому-то, кто облек в такую форму рассказ о ее злоключениях. Однако в конце второго прошения Воейкова утверждает, что написала прошения сама, поскольку никто не хотел браться за эту работу, да и заплатить ей было нечем. Действительно, если бы прошения составлял опытный чиновник, он конечно же сделал бы их более краткими и стройными, не допустив многочисленных повторов и отступлений. Как упоминает сама Воейкова, кабинет-секретарь императрицы А. В. Храповицкий предлагал ей свести свое обращение на высочайшее имя лишь к жалобе на последнее решение Сената, что вполне соответствовало установленному порядку. Однако просительница, хоть и сократила первоначальный текст вдвое, все же сочла необходимым вновь рассказать всю историю с самого начала. Скорее всего, кто-то Воейковой все же помогал, хотя бы в подборе многочисленных законодательных актов, на которые она ссылается и даже цитирует. Возможно, это был один из ее братьев, имевших опыт работы в