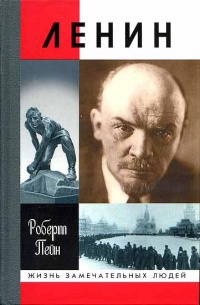Стань писцом, заключи это в своем сердце, Чтобы имя твое стало таким же. Книга лучше расписного надгробья И прочной стены. Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, Кто повторяет имена писцов, Чтобы на устах была истина.
Человек угасает, тело его становится прахом, Все близкие его исчезают с земли, Но писания заставляют вспоминать его Устами тех, кто передает это в уста других[384].
Писатель может создавать тексты бесчисленным количеством способов, выбирая из общего запаса слов те, что наилучшим образом смогут выразить его мысль. Но получающий текст читатель не привязан ни к одной интерпретации. Хотя мы знаем, что множество значений текста не бесконечно – они ограничены правилами грамматики и оковами здравого смысла, – оно диктуется не только самим текстом. В любом записанном тексте, как считает французский критик Жак Деррида, «знаку принадлежит право быть читаемым, даже если момент его производства невосстановимо утрачен и даже если я не знаю, что так называемый автор-скриптор хотел сказать сознательно и интенционально в момент, когда он это писал, то есть право на необходимое ответвление»[385]. По этой причине автор (писатель или писец), который хочет сохранить некое значение текста, должен в то же время быть читателем. Вот тайная привилегия, которую пожаловал сам себе месопотамский писец и которую я узурпировал, изучая обломки, некогда составлявшие его библиотеку.
В своем знаменитом эссе Ролан Барт определил разницу между écrivain и écrivant: первый выполняет функцию, второй действие; для écrivain писать – непереходный глагол; для écrivant глагол всегда ведет к цели – наставление, свидетельствование, объяснение, обучение[386]. Возможно, та же разница между двумя ролями чтения: для читателя, который наслаждается текстом ради самого процесса чтения, не имея других мотивов (например для развлечения, поскольку мысли о предстоящем удовольствии оказывают влияние на сам процесс), и для читателя, имеющего скрытый мотив (обучение, критика и другое), для которого текст лишь средство достижения другой цели. Первый вид деятельности ограничен временными рамками, которые устанавливает сам текст; второй существует в границах, установленных читателем для его главной задачи. Судя по всему, именно это Блаженный Августин считал различием, созданным самим Богом.
То, что говорит Писание Мое, говорю Я, – такие слова Бога услышал Августин. – Только оно говорит во времени, слово же Мое времени не подвластно, ибо оно пребывает со Мной одинаково вечно. То, что вы видите Духом Моим, – Я вижу; то, что вы говорите Духом Моим, – Я говорю. Но вы видите во времени, а Я вижу не во времени, и точно так же вы говорите во времени, а Я говорю не во времени[387].
Как было известно писцу и как вскоре выяснило общество, такое поразительное изобретение, как печатное слово со всеми его посланиями, законами, списками и литературой, зависело от способности писца сохранить его, то есть прочесть. Если эта способность будет утрачена, текст снова превратится в набор бессмысленных значков. Древние жители Месопотамии считали птиц священными животными, поскольку их следы на мокром песке напоминали клинопись, и воображали, что смогли бы понять мысли богов, если бы научились читать эти знаки. Целые поколения ученых пытались научиться читать надписи, код которых был утрачен: шумерские, аккадские, минойские, ацтекские, майя…
Иногда им удавалось добиться успеха. Иногда нет, как в случае с письменностью этрусков, которую до сих пор расшифровать не удалось. Ричард Уилбур описал трагедию, которая происходит с цивилизацией, утратившей своих читателей: