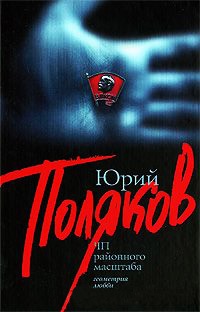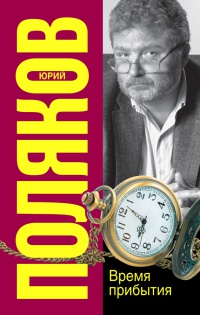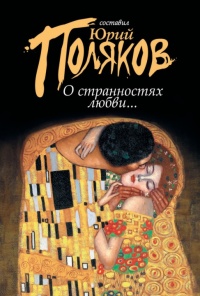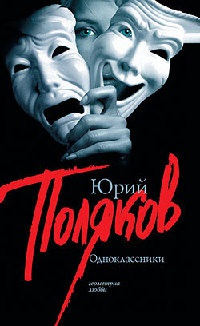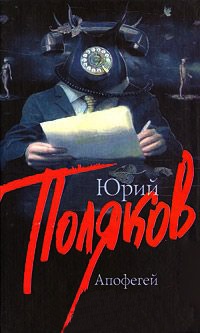В издательстве «Астрель» выходит новый роман Юрия Полякова «Гипсовый трубач, или Конец фильма». Известный автор, получивший на днях за свои книги Большую Золотую медаль Бунина, охотно ответил на вопросы корреспондента «ЛГ».
— Поздравляем вас от имени возглавляемого вами коллектива!
— Спасибо. Тронут. Не ожидал.
— Насколько я помню, впервые о намерении написать роман под названием «Гипсовый трубач» вы сообщили в интервью лет пятнадцать назад…
— Если не больше!
— За эти годы выйти в свет ваши романы «Козленок в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег», «Грибной царь»… Вы сделались драматургом. Ваши пьесы теперь широко идут по стране и за рубежом. А что же происходило все это время с «Гипсовым трубачом»?
— Он созревал. Я честно садился за него после окончания каждой из названных вами вещей, но, сочинив несколько страниц, откладывал в дальний ящик.
— Почему?
— Не знаю… Каждой книге — свое время. Когда, допустим, человека вдруг назначают на высокую должность, а он к ней не готов, это сразу всем заметно. В литературе происходит то же самое. И понимание того, готов ли ты как писатель к воплощению замысла, — это один из главных признаков профессионализма, а возможно, и таланта. Кстати, история литературы знает немало случаев, когда сюжет, родившийся в малоодаренных мозгах, потом становился подлинным искусством под пером совсем другого, готового к нему писателя.
— Так это не ваш сюжет?
— Мой, мой, успокойтесь!
— Значит, созрели наконец?
— Наверное. Читательская оценка покажет. Для меня это главный критерий.
— А критика?
— Объективной, качественной критики у нас теперь почти нет. Есть люди, оценивающие чужие сочинения с точки зрения интересов своей литературной группы, политической тусовки или по законам премиальной возни. Но и они делают это с неохотой, стараясь при первой возможности перебежать «в писатели». Любопытно, что как писатели они уже не ждут милости от критики, а тщательно организуют, продавливают положительные рецензии на свои сочинения, а также старательно заручаются поддержкой в премиальных жюри. Это я говорю со знанием дела, как главный редактор со стажем…
— И что же это за роман — «Гипсовый трубач»?
— Сам не знаю… Свободный роман. Поначалу я собирался написать рассказ про любовь, случившуюся в пионерском лагере.
— Что-то вроде «Пионерской Лолиты»?
— Упаси бог! Я нормальный человек — и мои герои тоже нормальные. Меня чрезвычайно интересует другое: совмещение в одной человеческой судьбе двух эпох — советской и постсоветской. Но рассказ так и не написался. Потом, когда мои ранние повести начали экранизировать, я столкнулся с миром кино. И мне захотелось сочинить смешную повесть о том, как режиссер и писатель сообща изготавливают сценарий. Ведь это интересный и очень забавный процесс: два человека, ссорясь и подначивая друг друга, из абсолютнейшего жизненного сора, обрывков чужих судеб, обломков своих нереализованных замыслов, из каких-то глупых историй, придуманных или услышанных, постепенно создают параллельную действительность. И она, эта действительность, иной раз оказывается такой яркой, что затмевает самих создателей, более того, неким мистическим образом воздействует на их реальную жизнь…
— А где они пишут сценарий, в Переделкине?
— Ну что вы! Я не настолько жесток, чтобы поселить моих героев в нынешнем Доме творчества «Переделкино». Режиссер Жарынин и литератор Кокотов сошлись в придуманном мной Доме ветеранов культуры «Ипокренино». В восемьдесят шестом — восемьдесят седьмом годах я довольно долго жил в Доме ветеранов кино в Матвеевском. Там с Евгением Иосифовичем Габриловичем мы писали сценарий про любовь инструкторши райкома (ее должна была сыграть Ирина Муравьева) к театральному режиссеру, совершенно запутавшемуся в себе.
— А почему райком?
— А что, инструктор райкома уж и влюбиться не может? Между прочим, следуя логике характеров, мы невольно предсказали крах перестройки. Второе объединение «Мосфильма», с которым у нас был заключен договор, гневно отвергло сценарий как «неинтеллигентный». Тогда сомневаться в перестройке и Горбачеве считалось «неинтеллигентным», как потом «неинтеллигентным» считалось ругать грабительские гайдаровские «реформы». Такая уж у нас творческая интеллигенция… Габрилович был ошеломлен и обижен. Я, конечно, тоже огорчился, хотя нет худа без добра: поработав с великим Габром, я фактически окончил Высшие сценарные курсы. К тому же мне удалось вблизи понаблюдать жизнь кинозвезд на закате. И я решил написать об этом повесть.
— И не написали.
— Как вы догадались? Наконец за десять лет, прошедшие с момента окончания романа-эпиграммы «Козленок в молоке», во мне скопилось немало социальной злости, достаточной для нового сатирического сочинения. Мы живем в обществе, где кривда и несправедливость сплетаются в самые невероятные, фантастические формы, вроде карася с рачьими клешнями, выловленного недавно на Истринском водохранилище.
— Но об этом, в сущности, написан ваш «Грибной царь».
— Ну и что? Значит, я еще недоборолся со злом. Кроме того, мне давно хотелось сочинить свободный роман, такую вещь, где сюжет прихотливо витает меж разговоров, воспоминаний, вставных новелл. Ведь мы с вами значительную часть жизни проводим просто разговаривая, выслушивая чужие истории или перебирая в памяти минувшее. Это важная, если не главная часть нашего земного удела…