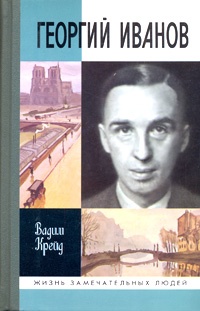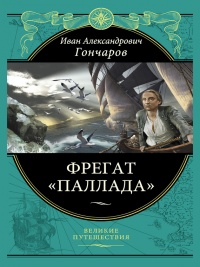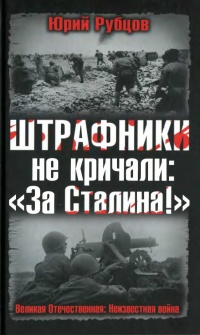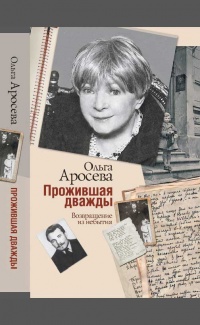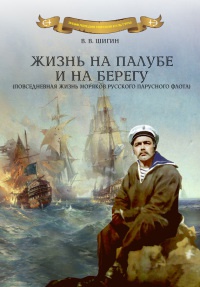(А. Ахматова, 1914 г.)Бродский не забыл о чудных днях молодости, о комаровских посиделках и в речи своей воздал должное Анне Ахматовой. Он и позднее говорил, что, хотя он не испытал влияния ее поэзии, она предстала перед ним как великий человек, человек великой души. Именно такой представала она во всех русских и зарубежных биографиях доброго двадцатилетия. Стихи ее издавались многократно, слава не увядала, и туристские автобусы, задержавшись на пяток минут (Cinq) у ограды писательского поселочка в Комарове, где стоит ее дачка – «будка», увозили притихших туристов на комаровское кладбище, где она похоронена…
Фаина Раневская сказала однажды об Ахматовой что-то вреде того, что страшной будет ее жизнь после смерти. Может, она имела в виду именно то, что происходит с этой «жизнью» сегодня. Собственно, в первые десятилетия закреплялась та мифологизация «великой души», к которой приложила при жизни немалые усилия сама Анна Ахматова, а потом и ее поклонницы, и ее «вдова» (или, если угодно, вдовец). Как отмечал один известный критик, этот «интеллигентский и, отчасти, диссидентский процесс» привел к канонизации образа. Но потом маятник качнулся в другую сторону. Внимательнее вчитавшись в бесчисленные мемуары, вышедшие на рубеже веков, потомки заметили натяжки, преувеличения, обнаружили, что глянец тускнеет и все меньше остается признаков «великой души». Остается популярнейшая поэзия и история выживания, но чтоб «величие»…
С началом XXI века от созданного отчасти ею самой, отчасти ее поклонниками величественного монумента великой женщины Серебряного века стали откалываться какие-то крохи, вредя цельности образа. Виной был острый интерес даже не к самим ее ранним стихам, сохранившим свою популярность, а именно к личности лирической героини, терявшей свою героичность с умножением мемуарной литературы. И хотя энциклопедии и учебники по-прежнему сообщали, что она овдовела, потеряв трех мужей, что первый ее муж был расстрелян, а третий умер в лагере, что ей запрещали писать стихи, что она «пережила голод» и страшную ленинградскую блокаду, что она «всегда была со своим народом» и там, где был этот народ, многочисленные мемуарные публикации вносили обидные и ненужные поправки в эти патетические известия и в результате слегка затуманили образ мученицы – тот, скажем, что воспроизвели в лондонской мозаике или в ленинградской скульптуре знаменитые художники.
Да, она была очень талантливой поэтессой, красивой женщиной (и последним гордилась, кажется, больше, чем первым). Ей довелось жить в самые страшные годы русской истории и притом уцелеть… Пришлось со всей страной пережить все «страхи соприродные душе». Впрочем, это ведь не она написала про страхи, а ее друг, Осип Мандельштам, сгинувший в лагере. «Я за жизнь боюсь – за твою рабу…», – честно написал он. Она проявляла большую осторожность и – выжила. Береженого Бог бережет. Господь ее помиловал.
Рассказывая о том, как легко Ахматова «перепосвятила» И. Берлину стихи, ранее посвященные изменщику В. Гаршину, я невольно вспомнил о Гумилеве – тот подобную операцию предпринимал гораздо чаще. И оно объяснимо: возлюбленных и друзей у «конквистадора» Гумилева было больше, чем изданных книг, а может, и написанных стихов. От полноты чувств он всем хотел сделать щедрый подарок…
По рассказу Гумилева, Анна сама призналась, что первая начала ему изменять. Решительному и так ценившему свое первенство конквистадору оставалось одно: догнать и перегнать. Свои многочисленные победы он одерживал чаще всего в кругу утонченных, интеллигентных петербургских или царскосельских девушек и женщин, мечтающих о завидной поэтической или артистической славе, и над красивейшими дамами Бежецкого уезда, жившими неподалеку от материнского Слепнева.
Гумилев, рано ушедший из жизни (первой его жене было отпущено на любовные победы лишних шесть десятков лет), успел оставить своим поклонникам и исследователям пленительную галерею имен, нежных прозвищ, утонченных лиц, восторженных строк – истинную Галерею Возлюбленных Гумилева. Возможно, в ней представлены не столь экзотически-разнообразные лица, как в Любовной Галерее Ахматовой, но эти лица по большей части миловидны и даже добры (и не так двусмысленны, как лица из ахматовской галереи)… Похоже, что толком разглядеть всех красавиц из этой галереи не возьмутся даже добросовестные биографы, но смогут кое-что упомянуть походя, хотя бы цвет их молодых волос: рыжая красавица Вера Неведомская, белокурая Мария Левберг, блондинка Ирина Одоевцева, брюнетка Нина Берберова… Все они, конечно, писали стихи, играли на сцене, поклонялись литературе и писателям, не могли противостоять славе и безоглядному мужскому натиску конквистадора.