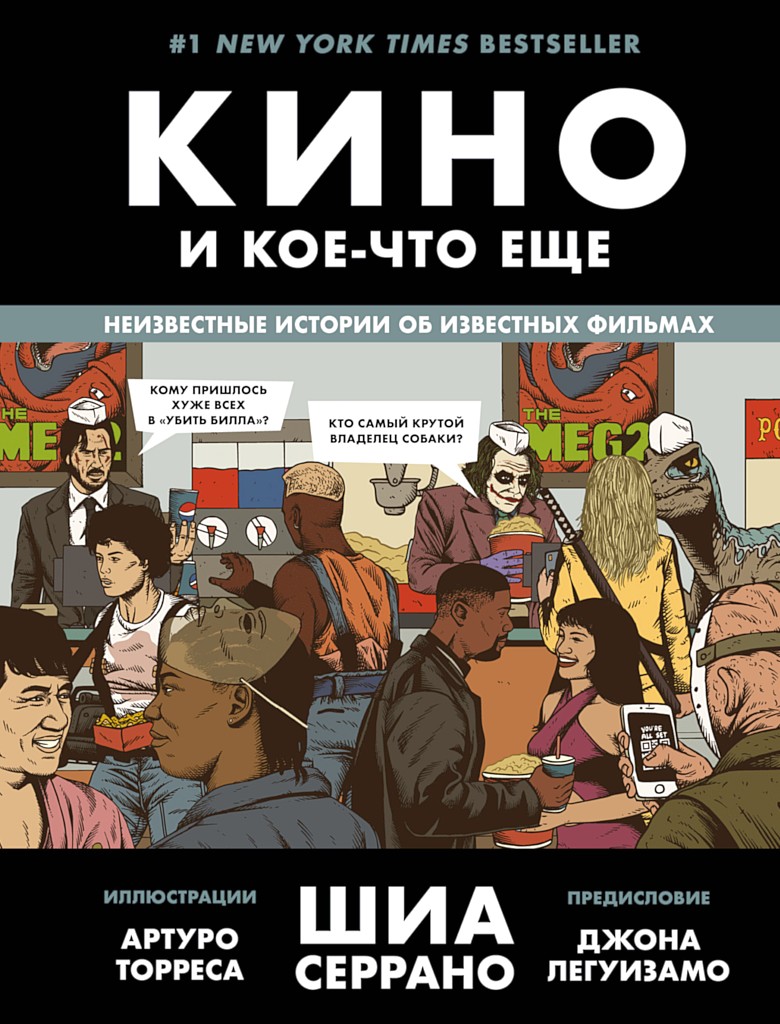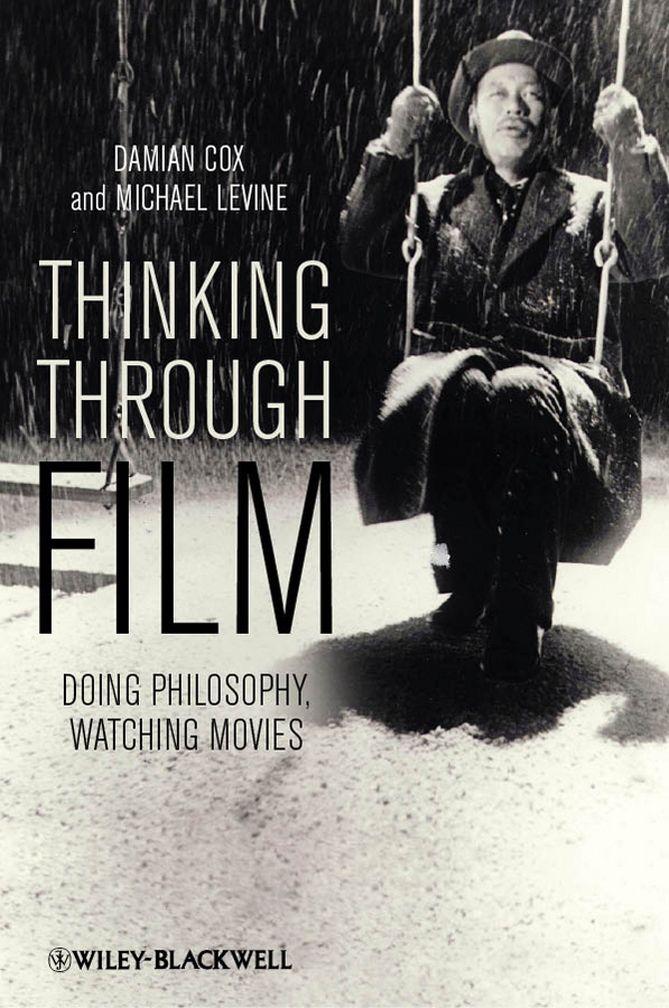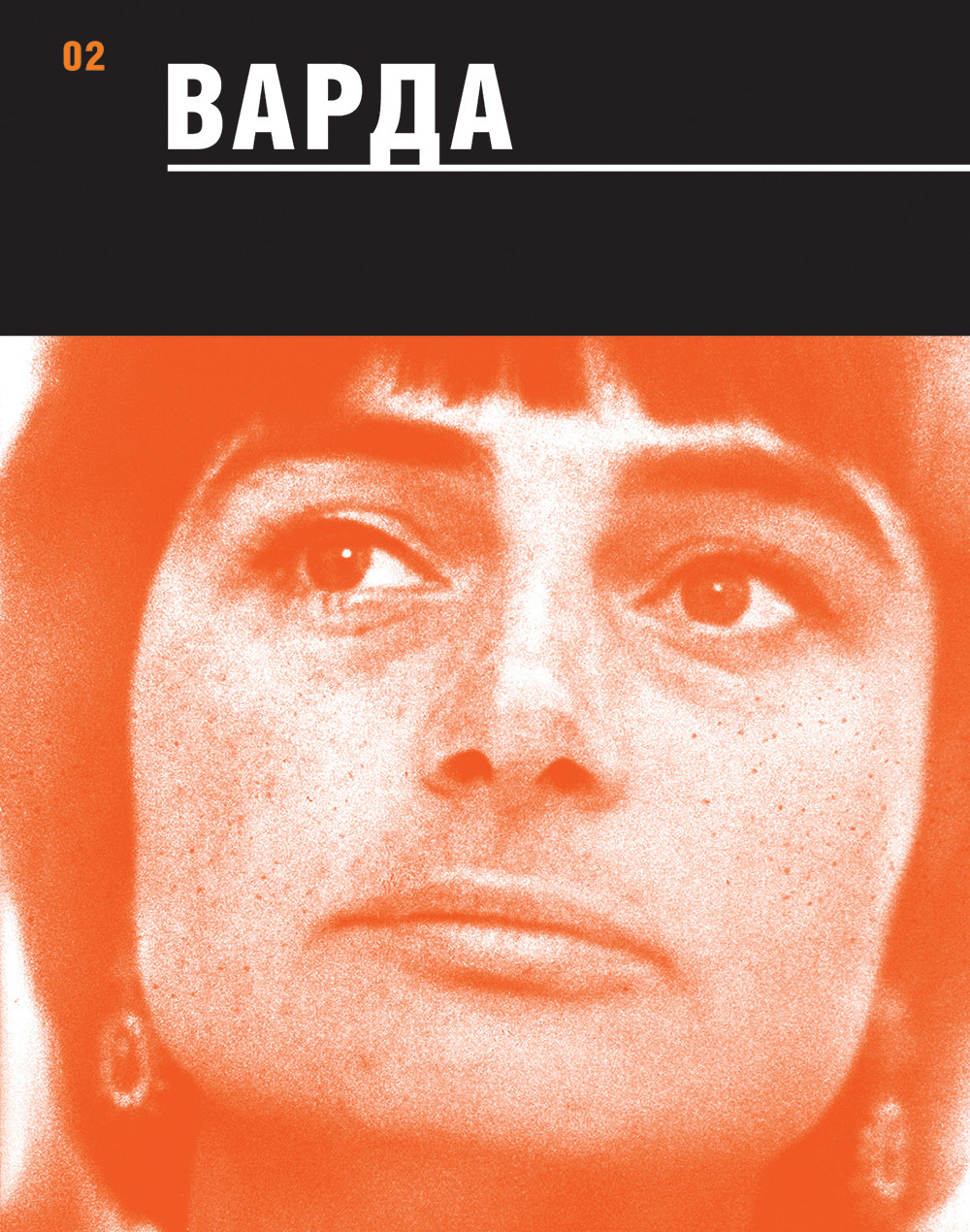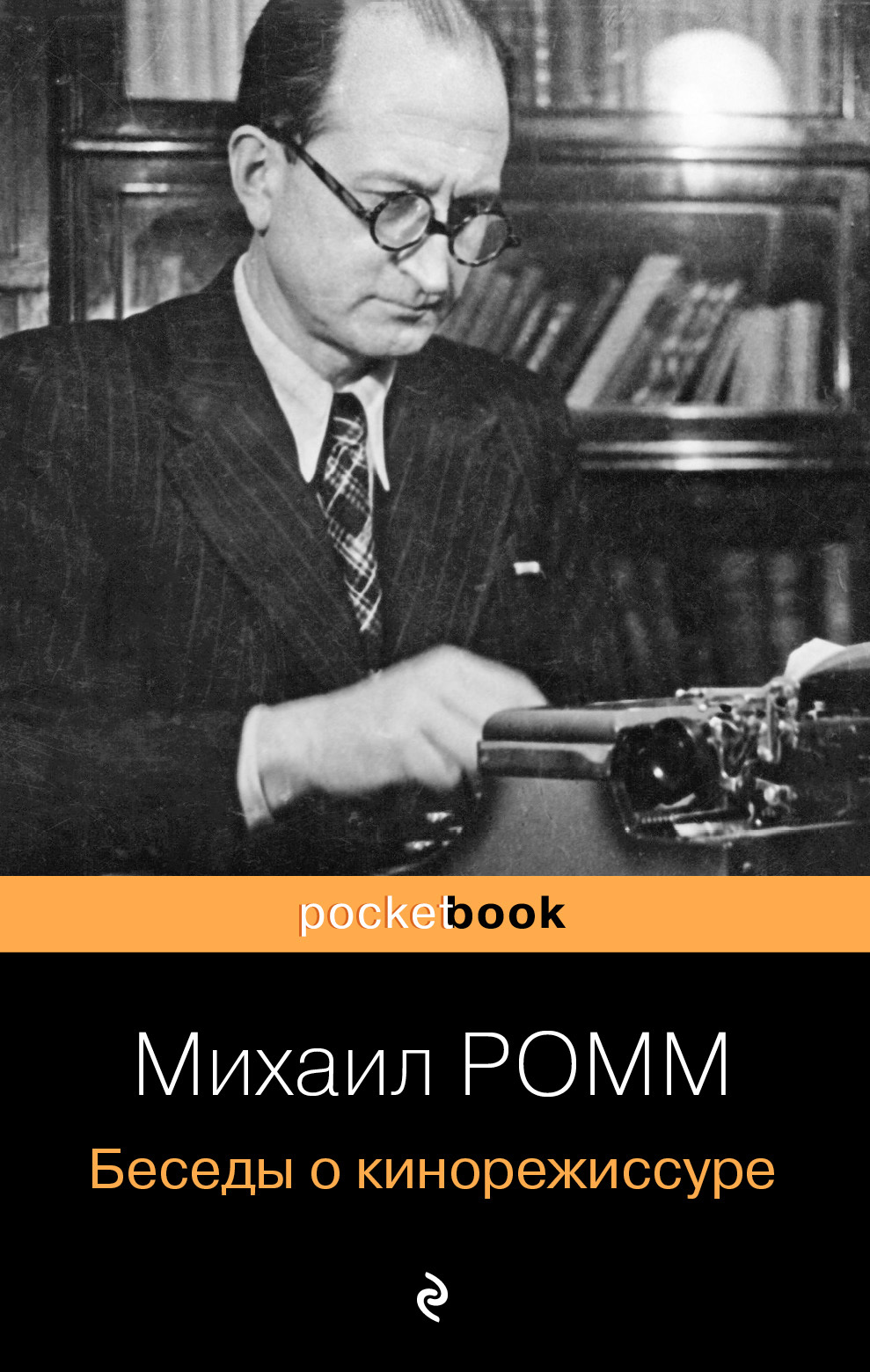за разговором. Во мне всплывают собственные воспоминания. Теперь я знаю все виды молотов и на всех могу работать и молотобойцем, и кузнецом. Я уже работал на всех больших печах и знаю, как правильно регулировать мощность, чтобы железо получилось чистым, без окалины. Я все хотел знать – знание, думал я, делает меня полноценным человеком. И вообще мне здесь нравится. Дома я думал, что вся Германия – пустырь, что здесь мало что произрастает, все люди мрачные, а женщины уродливые. Оттуда, из прежней жизни, из которой мы с Карлом вырвались, я не мог себе представить никого из них без эмблемы с мертвой головой. Но может быть, именно из-за того ада все здесь кажется мне таким замечательным – даже жар у печей и молотов, от которого перехватывает дыхание. Может быть, потому этот кусочек Германии и представляется мне большим садом, в котором тут и там разбросаны мастерские. Или и в самом деле нам двоим выпало большое счастье, что нас отправили именно сюда, на Рейн.
Высоко наверху, так высоко, что из-за солнца их почти невозможно увидеть, летят с четкими интервалами какие-то истребители. Временами доносится рокочущий гул тяжелых машин. На сирены уже нельзя полагаться. Американцы, англичане и французы, говорят, в некоторых местах уже вышли на тот берег Рейна. Их самолеты оказываются здесь раньше, чем успевают завыть сирены.
Вдруг сверху раздается свистящий звук, он становится все резче. Что-то несется прямо на нас и прижимает нас к крыше. Мы лежим ничком, прикрыв головы руками. Вой сменяется треском очередей.
– Их еще тут не было, штурмовиков. Впервые прилетели. – Когда вой становится слабее, мы поднимаем головы. – Давай посмотрим, во что они превратили фабрику.
Во дворе Генрих в берете и перемазанной маслом и сажей спецовке становится перед статуей основателя, Генриха Ланца, в ту же позу: одна нога выдвинута вперед, правая рука заложена за отворот пальто.
– Глядите, он прострелен навылет, но все еще стоит. Я бы так не смог. Ну, ребята, это – конец. Вы когда-нибудь играли в шахматы? Знаете шахматные термины? Да вряд ли, вы ведь не так часто после театра заходили в кафе. То, что сейчас начинается, мы называли в шахматах «дело техники».
С каждым днем все меньше людей приходит в цех. Русских военнопленных с буквами KG на спинах тоже не видно. Не видно и шляп итальянских берсальеров, правда, без перьев – перья отрезали в конце 1944 года, когда этих итальянцев прислали к нам за отказ воевать на стороне немцев.
Трамваи больше не ходят, поезда тоже. Антон и Отто уже несколько дней не приезжают из Хоккенгейма. Мы приходим пешком из Зеккенгейма для того только, чтобы оглядеться на фабрике и посмотреть, что с Генрихом. На электричке дорога занимала двадцать минут, сейчас мы добираемся до Маннгейма часа три, на улицах завалы, налеты не прекращаются.
Город опустел. Все куда-то ушли, попрятались. При этом я чувствую – они ждут, мы все ждем. Чего? Мы ждем тех, кто сейчас на той стороне Рейна. Ждем, когда они придут, когда все закончится. Господи, как это будет – конец, а для нас – начало? Чушь, ничего я не могу себе представить, ни о чем не могу думать.
Мы находим Генриха перед его квартирой недалеко от фабрики. Он прокладывает себе путь к входной двери когда-то бывшего двухэтажным дома и к своей комнате на первом этаже. Отодвинув только самые крупные обломки, он пробирается через обвалившиеся кирпичи, штукатурку и битое стекло. Только его одного и видно на безлюдной, лежащей в развалинах улице. Мы решаем, что он должен переехать к нам, в менее опасное место за городом. Сами мы недавно тоже переехали, еще на несколько кварталов подальше от Зеккенгейма. Добрая старая фрау К. все-таки слишком нас опекала и давала нам слишком мало свободы. Новая хозяйка недавно перебралась с ребенком за город и оставила в полное наше распоряжение трехкомнатную квартиру. Так что места у нас более чем достаточно.
Мы сразу же начали упаковывать пожитки Генриха.
– Генрих, у нас в Зеккенгейме еще все окна целы, а за ними – чудный вид на поля. Откуда у тебя столько чемоданов, откуда так много вещей?
– Ну, когда здешние женщины узнавали, что их мужья больше не вернутся, или просто-напросто когда долго не получали от них весточки, они приходили и приносили – одна – одно, другая – другое. Наверное, когда я их утешал, они понимали, что за моей потасканной внешностью скрывается тонкая и добрая душа. – Генрих привязывает чемоданы к двухколесной тачке. – Этот экипаж я заработал во время переезда последней дамы.
– Завтра утром к нам переезжает и Аннемария. У нее есть велосипед, на нем еще вполне можно ездить, но еды у нее нет совсем. И в нашей огромной квартире уже не найти ни крошки.
Когда мы в поисках еды забираемся в подвал представительного дома в разрушенной части города, нас окутывает пьянящий аромат.
– Милые люди, еду они забрали с собой, а вино унести не смогли, поэтому проткнули все бочки, чтобы оно вытекло. – А может, здесь побывал кто-нибудь до нас?
– Ну что ж, вино и само по себе должно быть питательным. Нет нужды лакать из бочек, вот несколько полных бутылок.
Мы выходим из подвала и щуримся на солнце. Тут сверху раздается вой, сопровождаемый треском автоматных очередей.
– Вот видишь, почему еше полезно вино? Вон как быстро ты упал на землю. – Карл лежит на животе, бутылки он прикрывает руками. В следующем погребе, до которого мы добрались, он разжимает руки, и обе бутылки разбиваются об пол. Там стоят две большие оплетенные бутыли.
– Черт возьми, какой это по счету погреб? Пятый, шестой? И повсюду только вино, одно вино. Нигде ни кусочка засохшего хлеба, который можно было бы размочить в вине.
На разрушенных стенах, которые больше ничего не разделяют, ничего не охраняют, да, собственно, уже и не являются стенами, я вижу объявления и лозунги, от которых пестрит в глазах. «Все колеса должны крутиться для победы».
«Враг подслушивает». «Отец умер. Вернер с семьей ушли в Шварцвальд». «Celui qui pille, sera comdamne a mort. – За мародерство – смертная казнь». «Один народ, один рейх, один фюрер».
Ты, гадина, вот я стою на одной из твоих развалин и смотрю на тебя, упиваюсь твоим вином и видом того, как ты подыхаешь. Ты знаешь, кто я, кто мы? Какое свидетельство мы несем в себе? А сейчас, сейчас нам выпало еще и счастье быть свидетелями твоего