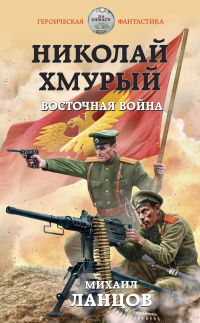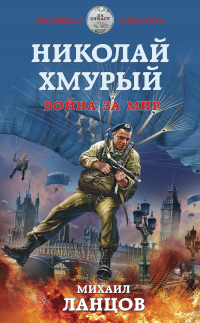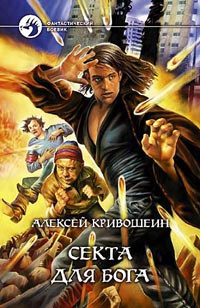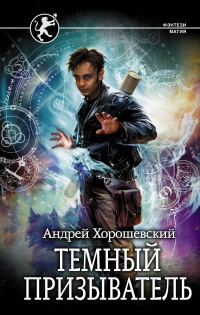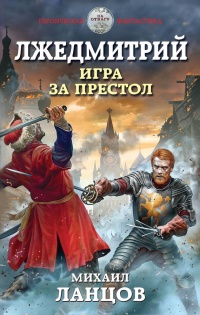Глава 1
1914, июнь, 10, Рейнская область
Французы очень внимательно следили за ходом боёв Германии и Австро-Венгрии с Россией. Можно даже сказать – пристально, потратив крайне внушительные средства, чтобы держать руку на пульсе. В Париже, как и предполагал Николай Александрович, не желали победы России… как, впрочем, и Германии. Их вёл страх, густо замешенный на вполне рациональных рассуждениях.
Германия была их непосредственным соседом. И она ещё в 1870 году наглядно показала, что один на один французы с ней справиться не могут. Слишком сильно революционные процессы разрушили некогда могущественное государство, позволив ему погрязнуть в демократии, бардаке и коррупции, иной раз неотличимых друг от друга.
Да, в идеальном мире демократия, сменяемость власти и прочие подобные штуки были бы полезны. Но мы живём не в идеальном мире, и люди, в основной своей массе, частенько ведут себя как ленивые задницы, одержимые предрассудками и примитивными страстями. То ведьм на кострах жгут, то вышки сотовой связи[106]. То Солнцу поклоняются, то Светлому будущему. В общем – в каждом поколении какие-то свои формы этого рода игрищ. Беда? Беда. Однако основная масса популяции как пребывала в условно разумном состоянии во времена неолита, так и осталась там до сих пор. Благо для обычной, повседневной деятельности чего-то большего, как правило, не требуется. Достаточно минимальных знаний, привычек и общеупотребимых социальных ритуалов. Печально? Может быть. Но других людей у нас нет и, что примечательно, никогда не будет, потому что такова природа человека. И не нужно удивляться, что на практике демократия в державном строительстве повышает лишь уровень коррупции, а эксплуатацию населения не только не снижает, но и увеличивает, порождая новые, причудливые формы.
Вот и во Франции раз за разом происходила смена шила на мыло, сопряжённая с изменением или – как минимум – коррекцией политического курса. Ведь новая группировка должна показать, что лучше прежней, даже если и не отличалась от неё никак. Что влекло за собой метания, иной раз самого полярного толка. А это никак не улучшало положение ни державы, ни населения. Да, происходил какой-то рост всеобщего благосостояния. Но он шёл только за счёт развития техники и технологий, хоть как-то компенсирующих организационный упадок.
Так или иначе, но французский истеблишмент, стремясь защитить свои интересы, был заинтересован в максимальном ослаблении Германии. Своих сил для этого ему не хватало, и это ясно осознавалось, поэтому они и пошли на союз с Россией. Оптимальным было бы разрушение Райха через раскол его на сонм маленьких державок, как было всего каких-то полвека назад. Ну, или хотя бы совершенное истощение и ограбление. Точно такое же, какому сами немцы подвергали Францию в 1870‐е годы. Оптимальным. Но на практике истеблишмент был готов к разным вариантам, лишь бы они все вредили немцам и чем сильнее, тем лучше.
С Россией отношения складывались у них не сильно лучше. Да, Франции был нужен союзник в сухопутной войне против Германии. Но союзник, преследующий французские интересы, а не свои. А Россия за последние двадцать пять лет пугающе усилилась. И Русско-Японская война это наглядно показала. Формально – от этого фактора французам должно быть ни жарко, ни холодно. Ведь каких-то прямых территориальных претензий между Санкт-Петербургом и Парижем не было. Ну, почти не было. А те, что имелись, можно было урегулировать. Однако всё было намного сложнее и хуже.
Экономика Российской Империи последние четверть века стремительно развивалась и менялась, проходя реструктуризацию. Особенно это явление усилилось после 1904 года, когда у Санкт-Петербурга появились фактически огромные колонии на востоке. Так-то оно и с 1892 года пошло-поехало из-за создания Таможенного союза: он фактически открыл для России рынки Персии, Абиссинии, Сиама и Гавайев. Но с взятием Китая, Кореи, Японии рост российской промышленности стал просто чудовищным. Ведь у Императора были деньги для своевременных инвестиций. И он вливал ровно столько, сколько требовалось.