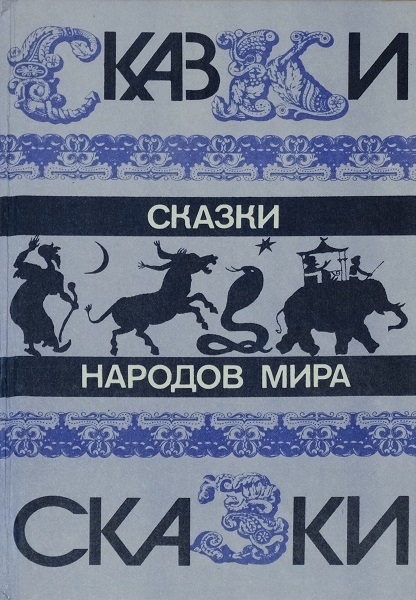новым самолетом Ту-16.
И вновь, как и тогда, газеты пестрели тревожными сообщениями. Еще тысячи городов в Европе и Азии стояли в руинах, еще шли полным ходом процессы над гитлеровскими палачами, еще не высохли слезы вдов и матерей, еще даже не были разминированы поля, на которых раньше растили хлеб, а в воздухе повеяло войной, куда более страшной, чем только что закончившаяся. Угроза атомной войны против СССР и стран народной демократии становилась все более и более реальной.
Атомное оружие кружило головы в США не только генералам, но и политикам. Границы СССР были опутаны цепью американских воздушных баз, а на страницах газет и журналов открыто обсуждалось, сколько атомных бомб потребуется для уничтожения Москвы и Ленинграда. «Холодная война», подогреваемая ядерной монополией США, вступила в свои права. И не только «холодная война». За свою свободу сражались Вьетнам, Индонезия. Бурлила Африка.
В этих условиях Центральный Комитет партии и Советское правительство мобилизовало все силы для того, чтобы в кратчайшие сроки сосредоточить усилия ученых на создании собственного ядерного оружия, чтобы страна социализма не была беззащитна перед лицом агрессора, который лихорадочно сколачивал и перевооружал печально знаменитый Североатлантический блок.
Однако создание советского ядерного оружия само по себе еще не решало проблемы обороны страны. Нужно было найти средство доставки бомб, короче говоря, нужен был стратегический бомбардировщик с большим радиусом полета.
Именно таким самолетом и должен был стать Ту-16. Проблема создания мотора для него была еще связана с тем, как «впишутся» моторы в самолет. Ведь в реактивном самолете неудачная компоновка моторов могла «съесть» не один десяток километров скорости.
Среди вариантов двигателей для Ту-16 было предложено четыре относительно небольшой мощности, разработанных в ОКБ А. Люлька. Но такой вариант не устраивал Туполева, потому что резко возрастало бы аэродинамическое сопротивление крыла самолета, что снизило бы его скорость. Андрей Николаевич обратился к Микулину с вопросом: можно ли вместо четырех двигателей сделать два мощных?
Микулин посоветовался со своими «ребятами», как он называл свое ОКБ. Опыт создания движка тягой в три тонны у «ребят» уже был, и они решили, что можно.
Первоначально каждый двигатель для туполевского самолета должен был обладать тягой в семь тонн. Но когда Дубинский засел за расчеты, к нему неожиданно зашел Микулин и, хитро улыбаясь, спросил:
— Моисей Григорьевич, на какую тягу вы рассчитываете двигатель?
— На семь тонн, — недоуменно ответил Дубинский.
— А сколько времени нам потребуется на исследования и проектирование?
— Примерно год.
— Плохо вы знаете Андрея Николаевича. Через год он потребует, чтобы тяга была на тонну больше.
— Значит, делать на восемь тонн?
— Сколько времени у нас уйдет на его изготовление и доводку?
— Еще год.
— А еще через год Туполев потребует прибавить еще тонну.
— Неужели?
— Поверьте мне. Я его сорок лет знаю.
— Значит…
— Значит, надо сразу делать его на девять тонн или что-нибудь в этом роде. Всегда надо помнить о перспективе.
Работы по двигателю шли полным ходом, хотя то и дело спотыкались на ухабах. Но, в сущности, из преодолений таких ухабов и состоит работа. Одна история с компрессором чего стоила, и сколько крови она всем испортила.
Работу ступеней осевого компрессора исследовал в своей лаборатории Тапельзон. Для того чтобы вращать ступень, он приспособил старый поршневой АМ-42. А чтобы выровнять вращение, на вал мотора он надел массивный маховик, и от него уже вал шел на сам осевой компрессор.
Но ставить эксперименты при такой схеме было не вполне безопасно. При вполне возможной поломке вала, приводящего в движение компрессор, нагрузка на авиадвигатель мгновенно снималась, и он мог пойти вразнос. Иначе говоря, вал мотора тотчас же резко увеличивал обороты и вращался все быстрее и быстрее, пока под действием центробежных сил не разлетался на куски. А если учесть, что с мотором в буквальном смысле этого слова мог бы полететь и маховик, то от лаборатории, фигурально говоря, только дым бы остался.
Поэтому, чтобы как-то уберечь людей, поставили щиток. Но щиток, в общем-то, не защита, и Тапельзон придумал довольно простое защитное автоматическое устройство. На стрелочный счетчик оборотов мотора — тахометр он поставил передвижной контакт.
Когда двигатель начинал развивать предельно допустимые обороты, при которых он мог пойти вразнос, стрелка тахометра касалась контакта, и в это мгновение автомат выключал зажигание двигателя, и тот, естественно, останавливался. Просто и удобно.
Вот на этом-то стенде и начали испытывать ступени осевого компрессора для двигателя туполевского реактивного бомбардировщика. Работа была тем более срочная, потому что Микулин, стараясь выгадать время, рискнул начать сборку компрессоров, не дожидаясь конца испытаний в лаборатории.
Первый день испытаний прошел нормально. Второй тоже. А вот на третий день неожиданно начался помпаж компрессора. Машину затрясло, как в лихорадке. Испытания остановили. Прибежали Микулин и Стечкин. Приказали повторить испытания. И снова помпаж. Раз пятнадцать повторяли, и каждый раз машину трясло.
Стечкин вместе с теоретиками уселся за проверку расчетов компрессоров. Исхудавший Тапельзон которые сутки не вылезал из лаборатории, безуспешно ломая голову над загадочным помпажем. Через несколько дней теоретики принесли проверочные расчеты Стечкину. Их мнения разошлись: одни считали, что помпаж не должен был вообще появляться, а другие, наоборот, предсказывали помпаж.
Стечкин, Фогель и Тапельзон сидели за столом, изучая расчеты.
— Прямо какая-то чертовщина, — задумчиво сказал Фогель, — ну словно какой-то автомат включает помпаж на определенных оборотах.
Слово «автомат» взорвалось в мозгу Тапельзона вспышкой молнии, озарившей загадочный мрак, из которого появлялся проклятый помпаж. Конечно, автомат! Он встал и потихоньку вышел из комнаты. По коридору к себе в лабораторию он уже мчался сломя голову. Вбежав в лабораторию, он кинулся к пульту управления мотором. И тут он увидел, что контакт тахометра переведен на меньшее число оборотов — то самое, при котором наступает помпаж компрессора. Видимо, кто-то из лаборантов задел контакт и не заметил этого.
Конечно, проще было бы перевести контакт в прежнее положение. Но в душе Тапельзона за эти кошмарные дни скопилось столько «отрицательных эмоций», что он резким ударом кулака оборвал все провода автомата, словно избивал своего врага.
Затем скомандовал рабочим:
— Запускаем!
— Зачем запускать, Самуил Борисович, — послышались голоса, — ведь только что до обеда запускали, и помпаж был.
— Запускаем, — громче повторил Тапельзон.
И конечно, во всем был виноват проклятый автомат, о котором он забыл. Компрессор работал нормально, помпажа и в помине не было.
В лабораторию прибежал Микулин, которому первому сообщили, что почему-то внезапно помпаж пропал.
Микулин внимательно смотрел на исправно работающий компрессор.
— А все-таки, Самуил Борисович, почему же появился помпаж? — спросил он Тапельзона.
Тот показал ему на автомат с болтающимися обрывками проводов.
— Когда