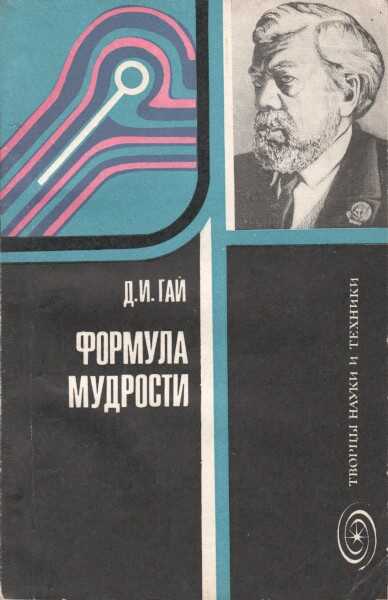следствия, среди которых могут быть как другие метафоры, так и буквальные утверждения: Любовь – это работа, Любовь нуждается в сотрудничестве, Любовь нуждается в преданном служении, Любовь нуждается в компромиссах, Любовь предполагает разделение ответственности, Любовь нуждается в терпении, Любовь требует жертв, Любовь – это зеркало души и т. д. Нетрудно видеть, что предлагаемый американскими социолингвистами перечень высказываний в отношении любви далеко не нов для нас, поскольку он предполагает ответственную активность людей по отношению друг к другу, которая издавна практикуется в нашей культуре.
Американцы в «проблеме» привыкли видеть предмет, требующий исчерпывающего разрешения. Лакофф и Джонсон предлагают по-новому прочитать высказывание «разрешение моих проблем», увидев его смысл через химический процесс. Слово «разрешение» (solution) в английском языке означает также «растворение». Таким образом, «проблему» можно понимать в виде чего-то растворенного и в форме осадка, с катализаторами, постоянно растворяющими одни проблемы и осаждающими другие. Химическая метафора позволяет взглянуть на проблемы как на сущности, которые полностью никогда не исчезают и не могут быть решены раз и навсегда. Все проблемы существуют перманентно, только они могут быть разведены и находиться в растворе или пребывать в твердом состоянии. Лучшее, что здесь возможно, – это найти катализатор, который позволит растворить одну и перевести другую в осадок. Для американцев химическая метафора позволяет по-новому взглянуть на человеческие проблемы и понять, что никакая проблема не исчезает навечно. Но ведь именно такой взгляд на проблему имеет место в русской культуре, в которой она ассоциирована со смыслами сомнительности, гадательности, загадочности (В. Даль). Американцы в загадке видят то, что, как правило, имеет верное решение, и, будучи решенными, они решаются навсегда. Для русских проблемы являются частью естественного устройства мира. Не все проблемы одинаково реальны, и их временное решение, скорее достижение, чем неудача. Заканчивая тему метафоры, необходимо заметить, что изменение метафор, согласно которым мы живем, – это далеко не легкая задача, ибо совсем недостаточно одного осознания внутренних потенций тех или иных метафор. Однако жизнь культур в современности предполагает интенсификацию обменных процессов между культурами. Мы видим, как культуры запада насыщаются экзистенциальными метафорами, а в жизни русских все большее место начинают занимать прагматические метафоры.
Заключение
В настоящем исследовании была обоснована топология культурного воспроизводства и рассмотрено ее приложение на материале русской культуры. В центре нашего исследования оказался не просто ландшафт человеческого проживания, а способ его организации, поэтому мы обратились вначале к ресурсам русской философии. В русской традиции тема «совместности» решалась в рамках рассмотрения темы соборности. Онтологическая трактовка последней привела Флоренского к вскрытию ее топологической подвижной структуры, Карсавина – к всеохватному телесному взаимодействию, а Савицкого – к обоснованию значимости территориального аспекта в «месторазвитии» культуры. Фактически в их лице мы обнаружили теоретических предшественников в обосновании топологии культурного воспроизводства. Однако их истолкование совместности, несмотря на идею «конвергенции», было осуществлено на почве христианской догматики, создающей в достаточной форме абстрактную картину экзистенциального всеединства мира, что не проясняло вопросов о конкретных механизмах ее динамики. Исключение в толковании совместности представляет М. Бахтин, который «место» стал рассматривать в качестве «поступка». Согласно Бахтину, «вживающее» поступление в отношении Другого является творящим актом, действительным со-бытием, а не пассивным совпадением с ним. Поступающее действие человека предполагает одновременно его вне-находимость, сохраняющую за ним единственность и неповторимость его места. Именно ответственность позволяет утвердить значимость единственности места, из которого совершается действие.
Дело в том, что в данной единственной точке, в которой Я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия не находился. При этом всякий находится на единственном и неповторимом месте, всякое бытие единственно. Вокруг этой единственной точки располагается всё единственное бытие единственным и неповторимым образом, и то, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может. Это признание единственности моего участия в бытии есть действительная основа моего поступка и всей жизни: поскольку я есмь, постольку я должен осуществить свою единственность.
Опираясь на различные несубстанциалистские истолкования «места» (Гуссерль, Хайдеггер, Деррида, Нанси, Бурдьё, Делёз, Фуко и др.), мы дали свое топологическое понимание «со-в-местности» как места взаимообращенности одних элементов в точке схождения и расхождения через другие и благодаря ему сформулировали понятие «топологема», которая представляет собой определенный способ соорганизации «мест» культуры. Культура в этой связи предстала транслируемой совокупностью образцов и привычных схем «со-в-местностных» способов человеческого взаимодействия. В результате мы пришли к выводу, что культурное воспроизводство осуществимо только в условиях определенным образом организованного пространства, в рамках которого происходит формирование человеческих тел и способов их совместного поведения и говорения. Совместный способ существования как бытие-в-месте оказывается фундаментальным для равнинной России. В ней господствует ширь и даль по отношению к глубине и высоте. Поэтому «душа» русской телесности на равнинных просторах мягкая и «нараспашку». Выход жизненных форм на земле возможен только вширь, на поверхность. Способ российского существования – «поверхностный». «Поверхность» здесь понимается как место, где благодаря взаимодействию неба и земли происходит оформление мировой пространственности.
Русская «поверхность» в основном формировалась усилиями двух культур: культуры человека, осваивающего природу, и культуры природы, смягчавшей все нарушения, вносимые человеком. Культура природы выражается в действии живой природы, которая существует также в форме сообществ, имеющих место как в растительных, так и в животных ассоциациях. Природа также «социальна» и в том, что она может существовать рядом с человеком лишь тогда, когда он социален сам. Русский крестьянин многовековым трудом обрабатывал природное пространство. Он пахал землю и тем самым определял очертания ее поверхности. Проходя по земле плугом, он задавал очертания природного пространства, которые оказывались соразмерны действиям человека, «разглаживающим» грани земли. Действия человека задавали особый ритм параллельных линий в складывании различных форм повседневного существования. Таким образом, поверхность русского ландшафта создавалась, с одной стороны, природой, восстанавливающей все то, что в той или иной мере нарушал человек, и с другой – человеком, разглаживающим землю своим трудом и смягчавшим тем самым ее поверхность. Первичной формой совместного способа существования в равнинном пространстве (топологемой) явился русский «мир-община», который уже нес в себе структуру соборности. В.О. Ключевский показал основанное на ней развитие различных способов о-гораживания пространства.
Жизнь можно понимать как размещение в пространстве, а смерть – как лишение места. Всё многообразие мира порождается двумя основополагающими действиями – сложением и вычитанием или, что то же, собиранием и рассеиванием. С «изгнанием» с места культура борется организацией ландшафтного пространства путем воздвижения архитектурного сооружения. Русский дом – деревянная изба – явился результатом «совмещения» всех российских топологических параметров. Избы ставились там, где все четыре времени года проявляли себя во всей полноте,