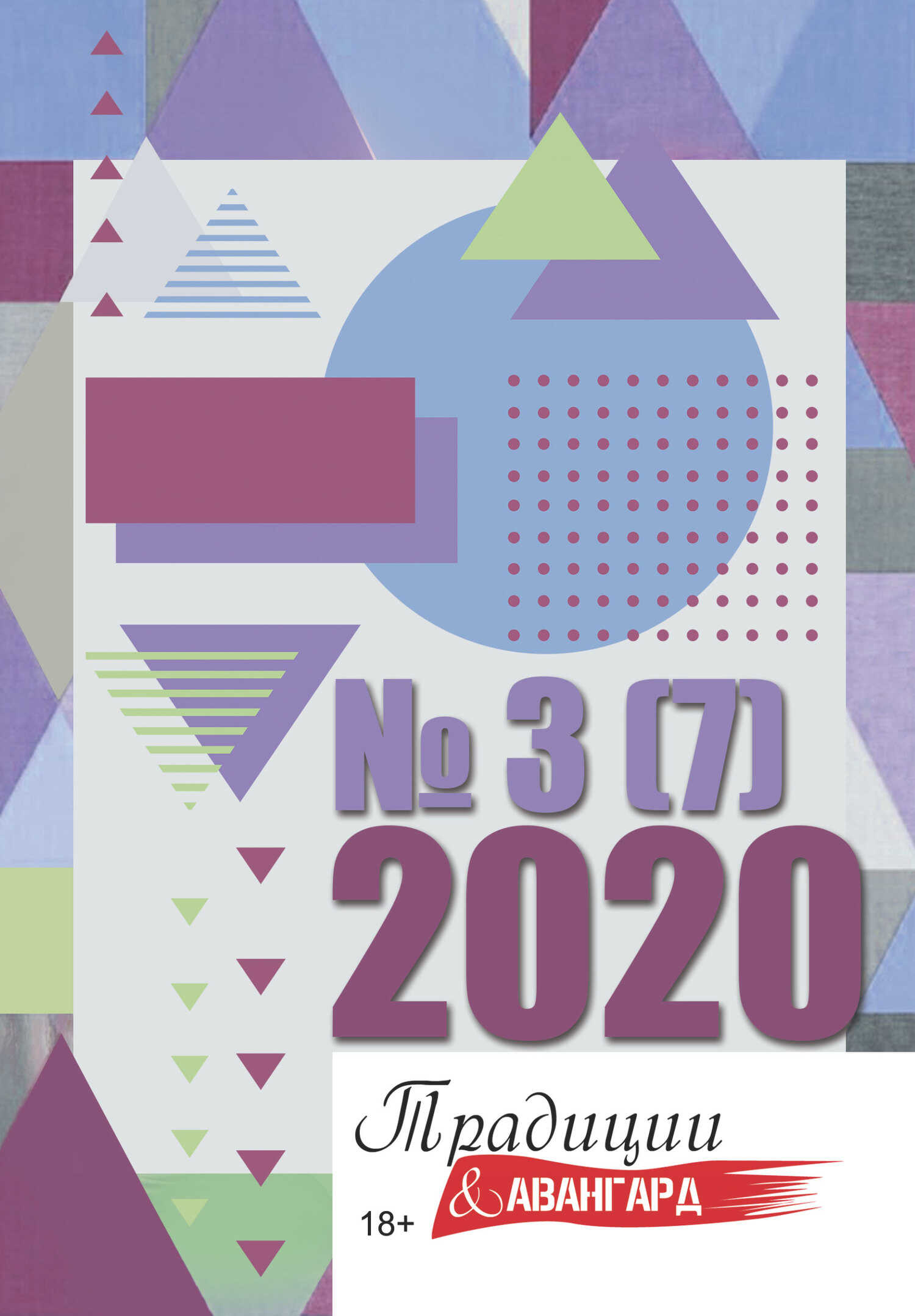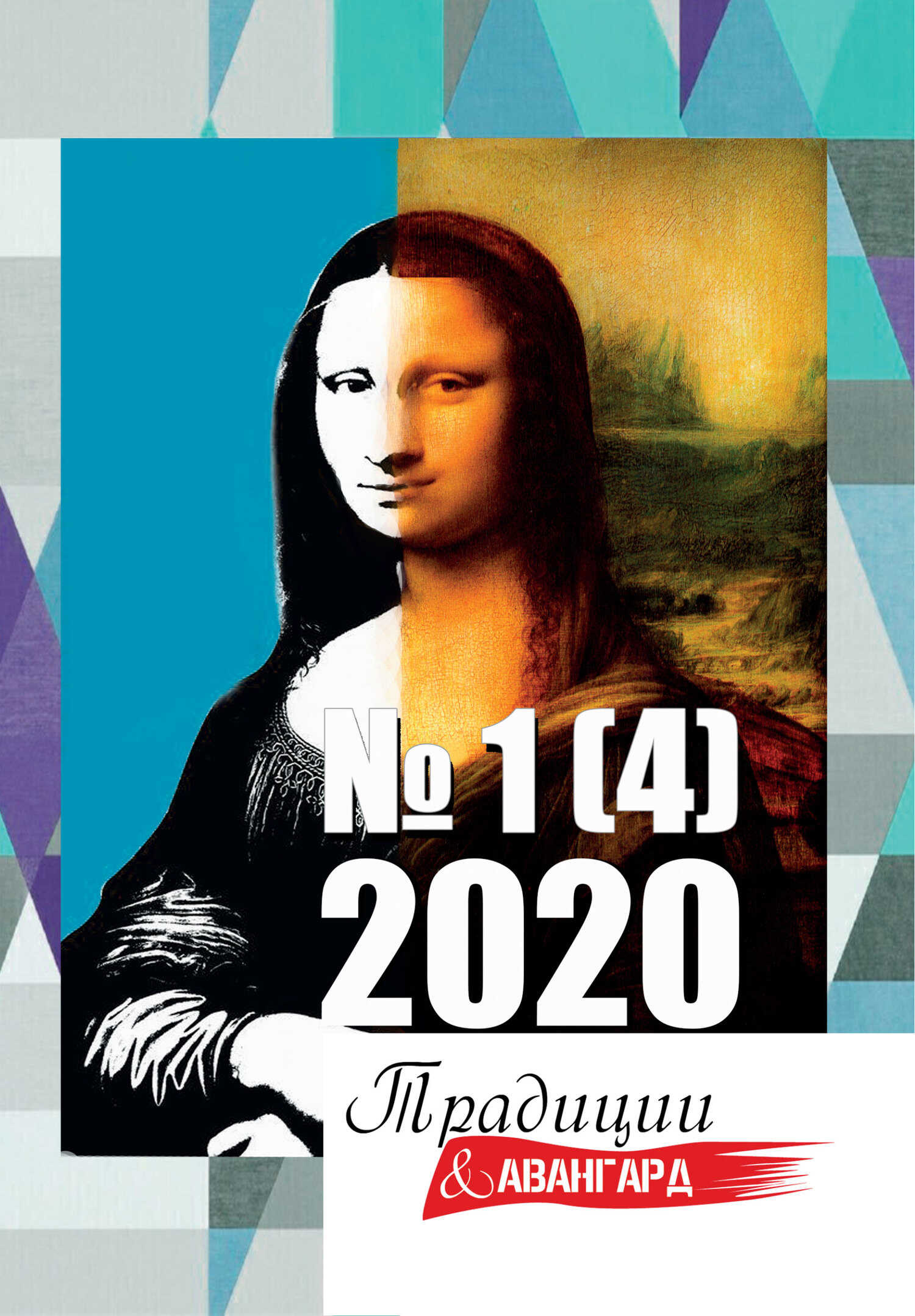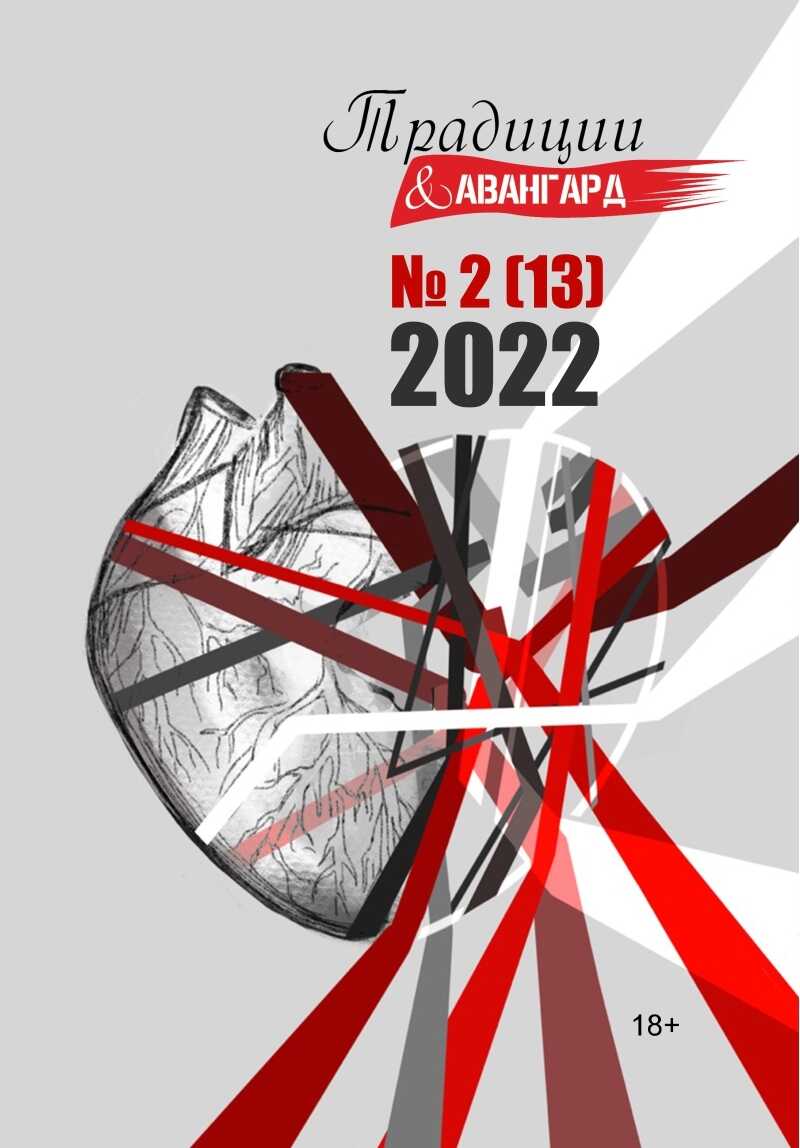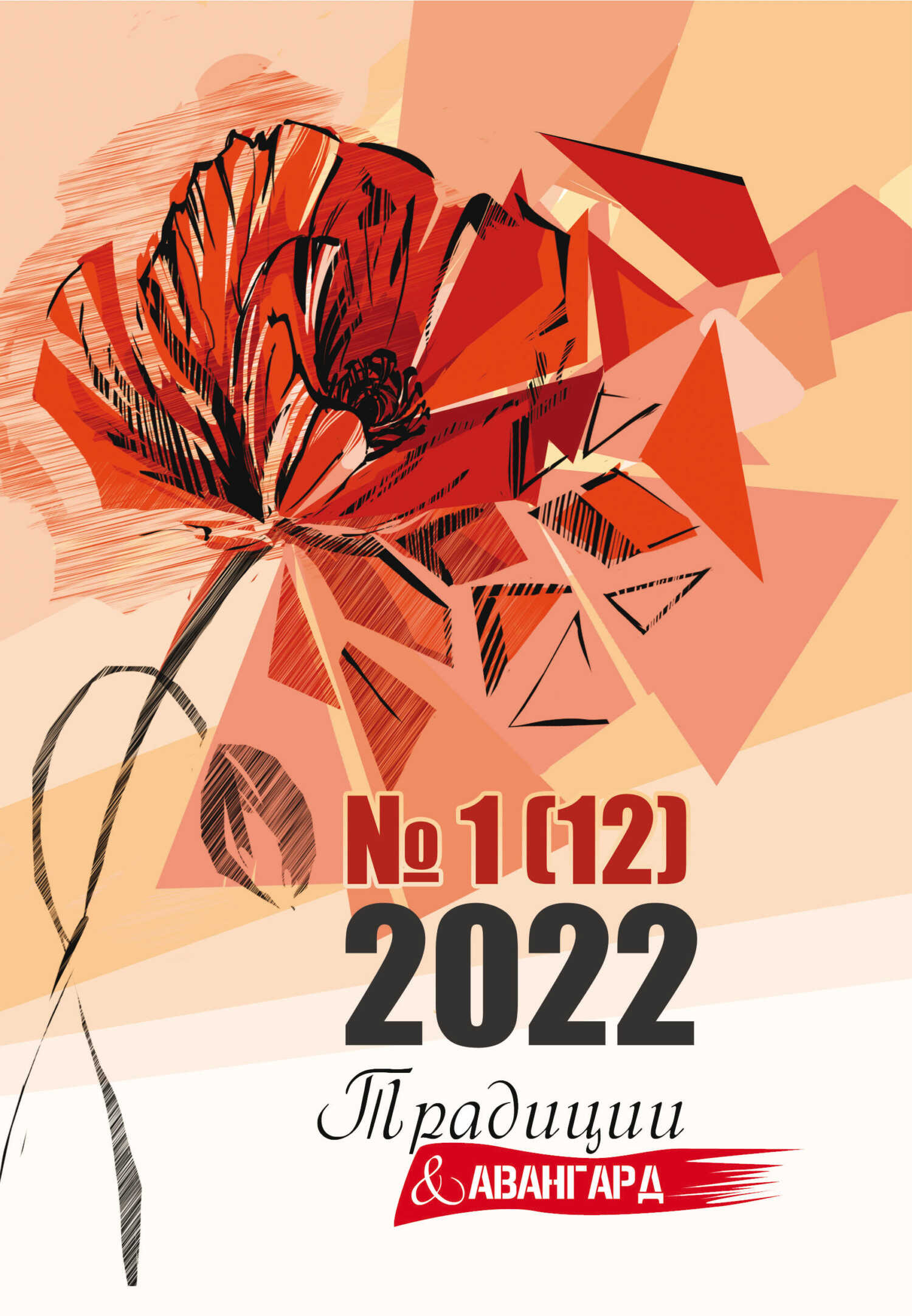женщины, потерявшие близких и любимых, не становились причитальщицами. В севернорусских деревнях второй половины ХХ века умение выражать горе именно в таких формах очевидно более редкое, чем трагические семейные истории.
Умение плакать причетом ассоциируется с сильным характером: «Причитали люди, которые, я даже не могу объяснить, как… Тетя Марфа у нас была сильного характера». Можно сказать, что сила преодолеть собственное горе оборачивается силой воздействовать на других. Именно это умение оказывается определяющим для хорошей причитальщицы. Часто такими были старшие женщины в деревне.
Какими же чертами должна обладать женщина, которая становится искусна в причетах? Судя по всему, голос был значим в меньшей степени, чем можно было бы ожидать. Например, у одной из авторитетных причитальщиц было прозвище «Гнусавка» (за то, что говорит в нос). Значима память, про другую вспоминают: «Она частушек много знала. Да она все знала! У нее была идеальная память. Как это ты не знаешь свой номер телефона мобильного?! Да я любой выучу!» (ж., 1966 г.р., Тарногский р-н). Прозвище «Лешачиха» (Тотемский р-н) объясняется умением выругать, которое часто сопутствует роли причитальщицы – ср.: «Ну такая она на язык-от была – и выругать может, хоть бы что. И все чисто может. Без матюков» (ж., 1955 г.р., Тарногский р-н). Согласно этим рассказам, причитальщицы легко переходили межличностные границы, и это важно, потому что они должны были управлять эмоциями людей.
Знание причитаний может входить как элемент в погребально-поминальную специализацию тех, кто моет покойников. Иногда занятие мытьем покойников передается по наследству от матери к дочери. От матери к дочери может передаваться и причет – так Анна Венаминовна (1931 г.р.) из Тотемского района впервые запричитала в 47 лет на похоронах матери, при этом она рассказывает, что «мама была горазда» причитать и что она «отпричитала весь Вожбал». Сама баба Нюра воспроизводит тексты и своих причетов, и материнских (например, фрагмент причета матери по сыну, брату Анны).
Причитания на практике часто совмещались с молитвами и духовными стихами, вбирали в себя образы православной символики. Молитвы и причитания – тексты принципиально разные – существуют на практике в едином комплексе. При этом молитвой просят Бога принять душу, а причитания становятся языком, на котором обращаются к самой душе. Распределение функций помогало текстам уживаться внутри одного ритуала. В кусте деревень Верховье Тарногского района параллельно существовали (и одновременно сошли на нет) причет и институт «читалок».
Причитание в пору своей обязательности могло восприниматься как ритуальная услуга или как семейный долг. С этим связаны анекдоты о плакальщицах, у которых реальное отношение к покойному отличается от исполняемого плача. Так, в Бабушкинском районе записан рассказ о деде, которого бабка решила похоронить, сэкономив на костюме. Когда она начинает причитать: «Ой, ты милой да дорогой / Да ты куда да нарядился, / Да куда ты собрался», он отвечает: «В футбол играть, бабка!» («раз она его в трусы да майку надела») (ж, 1931 г.р., Бабушкинский р-н). Чтобы нейтрализовать противоречие между обязательностью причета и его прочувствованностью, сами причитальщицы переносят акцент с искусства причета на его личные смыслы. Похожим образом практика обучения причитаниям (путем тренировки заранее и прицельного слушания старших) отличалась от нарративов о внезапном пробуждении таланта к причету при смерти близкого человека. В народном представлении естественным считалось мистическое, а не техническое приобретение навыка, что гарантировало наличие контакта с потусторонними силами.
Причитания часто сохраняются в памяти людей, занимающих особое положение в деревне. Например, один из причетов был записан на празднике Тихвинской в Никольском районе от женщины, которая собирала монеты, оставляемые другими паломниками (непрестанно повторяя благословения всем, кто с ней столкнется). В дальнейшем разговоре оказалось, что эта женщина периодически ездит в Вологду искать, кто ей подаст. Е. Е. Левкиевская в статье «Прошение милостыни: Старые культурные модели и новые языковые стратегии» (сборник «Ритуал в языке и коммуникации», РГГУ, 2013) пишет о коммуникативной структуре нищенства, что любой прохожий становится потенциальным адресантом-дарителем, а нищий ставит себя на место адресата. При этом он – субститут высших сил: «Милостыня, подаяние всегда рассматривались в традиционном обществе как не только социальная, но и сакральная форма контакта социума с нищим (ср., например, милостыню как форму поминовения умерших), в лице которого происходит общение с Богом». Постановка себя на место сакрального адресата была свойственна нашей собеседнице с детства: по ее словам, мать посылала ее, девочку, на кладбище собирать конфеты и кормиться там. Запрет, существующий для всех детей, для нее не действовал. И причет по нашей просьбе она исполнила легко, перемежая его жалобой на отсутствие денег (намек мы охотно поняли).
Сложно сказать, притягивает ли рассказ о тяжелом жанре историю о странной судьбе или некое особое положение в социуме способствует развитию навыка причитать, но часто одно совпадает с другим. Про женщину, оплакавшую всех в деревне, соседка говорит: «Бабка была эдакая… Непростая» (Тотемский р-н). Про другую причитальщицу (от которой экспедиция «Школы традиционной народной культуры» записала несколько развернутых причетов) вспоминают: «Кого-то розвести, ково-то свести. … К ней люди ходили и на машинах издили» (ж., 1941 г.р., Тарногский р-н). Даже в доме престарелых, где она провела последнюю зиму, ее разыскал человек с грыжей межпозвоночного диска. Сотрудница дома престарелых рассказывает: «Я ее вызвала, бабушку эту. <… >. Она говорит: “Мне не справиться – я ведь заговаривала грыжу у ребенков, у младенцев!”» (Тарногский р-н). Подобная коммуникативная неудача (омонимия народного названия детской болезни и нового врачебного диагноза) показывает, что представление о «магическом специалисте» переживает знание традиции оказываемых им услуг. Так и образ причитальщицы, знающей, как обратиться к умершему, и потому занимающей промежуточное положение, переживает обязательность причитания на похоронах и поминках.
Далеко не всегда мастерица причетов бывает печальной, скорее, наоборот. Так рассказывают об одной из причитальщиц Кадуйского района: «А эта тетя Валя, она такая интересная всегда. … Вот она могла в любой праздник пройти взять сковороду. Вот так поет частушки, бьет по сковороде, как по колоколу. И идет сквозь деревню, и все частушки… <… >. Она всю деревню разбудила – час или два…» (1930 г.р., Кадуйский р-н). Другие соседки говорят о той же исполнительнице причетов: «Она была артистка самая настоящая», «комичка», рассказывают, как она ходила ряженой (ж., 1939 г.р., Кадуйский р-н).
Можно воспринять это как объяснение причитаний через мастерство, необходимое при исполнении причета, через память на «все старинное». Хождения ряжеными – такая же традиция, как и причитание, примерно в то же время исчезающая из быта. Но между этими практиками есть более прочная связь.
Летом 2017 года от одной исполнительницы мы записали причет и следующий рассказ: «Я у