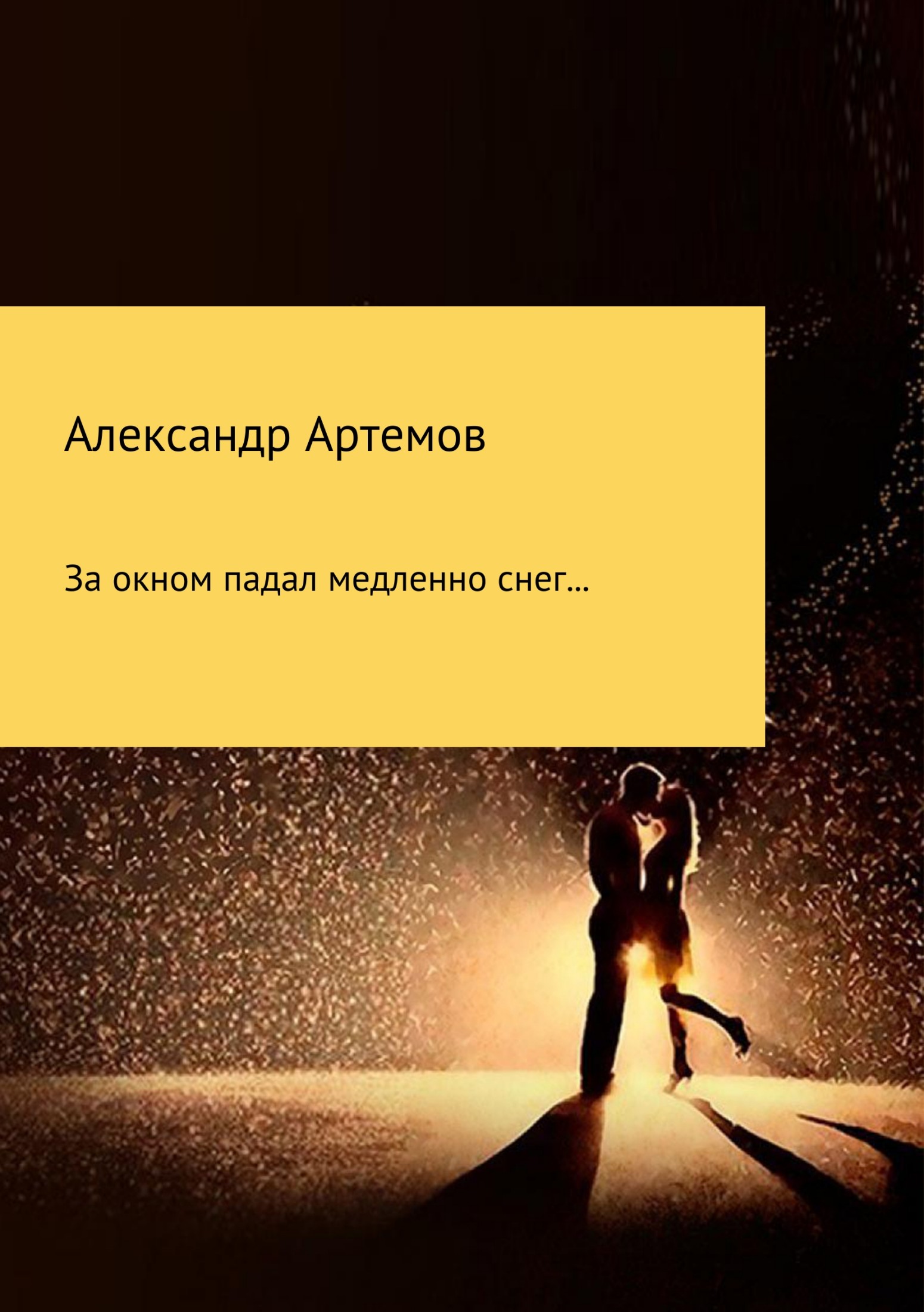незначительном толчке Кавунок вздрагивал, замирал, словно боялся, что цепь воткнется не в прокладку, выпершую на стыке, а во что-то живое, ранимое. И его вздрагивания и замирания тут же передавались Комлеву, словно он и Кавунок имели общую нервную систему. А когда цепь упиралась во что-нибудь неподатливое, Кавунок осторожно выбирал, вытягивал ее назад и, вращая то влево, то вправо, звено за звеном снова досылал в трубу. Делал это Кавунок как-то деликатно, но такая деликатность стоила ему больших усилий. Спина его парила, пот стекал под мундштук респиратора и разъедал губы. Комлев тяжелой работы не выполнял — хирургу так же, как пианисту или скрипачу, нужны чуткие руки, — но нервное его напряжение было настолько велико, что и он буквально обливался потом.
И вот сосредоточенное, насупленное лицо Кавунка просветлело:
— Взяли, братки, потянули! — пробормотал он, едва удерживая в зубах мундштук.
Комлев будто бы подлетел на месте, но, совладав с собой, ловко щелкнул карабинами: подцепил к цепи низку из пяти небольших цилиндрических сосудов (в четырех из них — теплый рисовый отвар, в пятом — химический карандаш, форменный бланк-запрос). И цепь потекла в трубу, потекла, как тонкая светящаяся струйка. Комлев, хотя ключом владел неуверенно, сам отстучал на базу: «Живая связь установлена. ППП — пункт подачи питания — начал действовать».
Глава XXV.
«ФИАЛКОЙ» ЗАПАХЛО
Комарникову прибредилось, что лежал он в глубоком подземелье пыточной башни. В огромном чугунном котле неистово клокотала смола. Густая, чадная волна перекатывалась через щербатую кромку котла, устремлялась к ногам Комарникова и ударяла по ним, будто током. Испытывая нестерпимую, жгучую боль, Егор Филиппович силился отвести в сторону или хотя бы приподнять ноги, но они не повиновались. А тягучая, огненная смола уже ползла по животу, груди, обдавала жаром голову, перехлестывалась через плечи и, мгновенно остывшая, скатывалась по спине обратно к ногам. Едва она попадала в ложбинку между лопатками — Комарников содрогался: его начинал бить озноб. Собрав последние силы, Егор Филиппович сделал отчаянный рывок, чтобы уклониться от очередной, мчавшейся на него волны.
— Очнулся, Филиппыч? — донеслось до него сквозь отступавшую дрему, и он почувствовал тяжесть рук, прижимавших его к угольной постели.
— Матюша? — прошелестел Комарников, едва ворочая шершавым языком.
— Я, Филиппыч. Я. Здорово же ты напугал нас, Филиппыч. Бредил, бросался, куда попало… Придержать пришлось…
— Спасибо… Как думаешь, сколько мы тут?
— Затрудняюсь, Филиппыч…
— Сигналят?
— Перестукивались.
Сквозь монотонный шум сжатого воздуха послышалось отдаленное скрежетание, оно усиливалось. Комарников приложил ухо к шестидюймовой трубе и отчетливо услышал железный шорох, словно изнутри трубу чистили проволочным ежом.
Чепель подполз к черному жерлу трубы в тот самый момент, когда из нее показался тускло поблескивавший шарик.
— Есть! — ухватился Матвей за цепь обеими руками и стал рывками выбирать ее.
— Тише, Матюша, не латоши, Матюша, — приговаривал Егор Филиппович, едва сдерживая охватившее его возбуждение.
Следя за тем, чтобы Чепель тянул равномерно, без рывков, Комарников вдруг ощутил, как дорого ему это нехитрое, но такое нужное приспособление — цепь связи. Она соединила его и его товарищей не с Кавунком, который продолжал в это время проталкивать ее в трубу, не с горноспасателями — с самой жизнью, от которой их отторгла стихия.
Наконец, Чепель вытащил низку сосудиков. Четыре из них были теплыми, один — холодным. Вывинтив из последнего пробку, Комарников извлек записку, лист свернутой в трубочку бумаги, карандаш.
— Свети, — сказал он Хомуткову.
— Дядь Егор, — заныл Марк, — давайте откроем и остальные, там же, наверно…
— Рисовый отвар, — перебил его Комарников, успевший пробежать глазами записку.
Лицо Хомуткова передернулось жалкой гримасой:
— Мы столько дней не видели горячего…
— Разделите остатки «тормозка», пейте отвар, — скороговоркой пробормотал Егор Филиппович, разравнивая на обрезке горбыля бланк-запрос.
— А вы?
Комарников не отозвался. Карандаш, подпрыгивая на шероховатостях горбыля, порой протыкал плотную, зеленоватую бумагу. Егор Филиппович уменьшал нажим, но вскоре забывался и то же повторялось опять. «Передайте, — крупно вывел он, — кто, кроме нас, и где застигнут?» Только написав этот, не дававший ему покоя вопрос, Комарников начал всматриваться в графы бланка. Перечислив фамилии, указав место нахождения и упомянув, что водой обеспечены, а полного голодания удалось избежать, Егор Филиппович вдруг заколебался: «Сообщить о своей беде или нет? Напишешь — начнут нажимать, а в спешке… Мало ли что может произойти в спешке! Воздержусь. Авось, выдержу». И тут на него снова накатилась обжигающая смоляная волна. Став ледяной, она начала медленно сползать по спине. Вслед за нею побежал и озноб. «Может, написать?» — заметалась, забилась искушающая мысль, точно и ее знобило. Превозмогая слабость, еле вывел, снова протыкая бумагу, непослушным в дрожащих пальцах карандашом:
«У меня открытый перелом правой голени. Сильная лихорадка. Передайте лекарство. Семье — ни слова».
Опустил бланк в цилиндрик, завинтил пробку. Неохотно выпил отвар. Оба сосуда передал Чепелю. Тот включил в цепь гирлянду цилиндриков, постучал по трубе: «Тяни помалу!»
Пробежав первые слова, Комлев еще и еще раз перечитал их. Он не то, чтобы не понял вопроса или не был подготовлен к ответу на него, — не ожидал, что человек, который несколько, суток находился да, собственно, и продолжает оставаться на черте между жизнью и смертью, прежде всего спросит о судьбе товарищей. А к ответу Комлев подготовился давно, еще в институте. И для того, чтобы дать его, ему не требовалось ни с кем советоваться. Лекцию профессора Плямочкина «О лжи как целебном факторе» он помнил наизусть. «Целебная ложь, — говорил профессор, — является порой единственным и самым сильно действующим средством, облегчающим страдания больного или даже излечивающим его. Но, — предупреждал профессор, — святая ложь врача лишь тогда становится целебной, когда больной безоговорочно поверит в нее, для чего надо солгать так, чтобы он принял вашу ложь за чистейшую правду». А Комлев считал себя в данную минуту, вот сейчас, не способным к этому. И хотя хорошо понимал, что задержка ответа может заронить сомнение в его достоверности, все-таки решил не спешить. Снова направил свет на бланк-запрос, прочитал: «Сильная лихорадка. Передайте лекарство», вернулся к началу фразы: «У меня открытый перелом…» «Открытый? — Комлеву стало жарко. — Могла попасть инфекция. Наверняка так и случилось. Нужны антибиотики? А где они у тебя, антибиотики?»
В его сумке были противошоковые, кровоостанавливающие, болеутоляющие, сосудорасширяющие и сердечные средства, но антибиотиков не было. «Чем же ты думал? Как ты не догадался захватить хотя бы несколько шприц-тюбиков», — с горечью и досадой упрекал себя Комлев. Продолжая корить себя, набросал записку:
«Медикаменты получите в самом скором времени. А в отношении вашего первого вопроса — и с вами, четырьмя, хлопот не