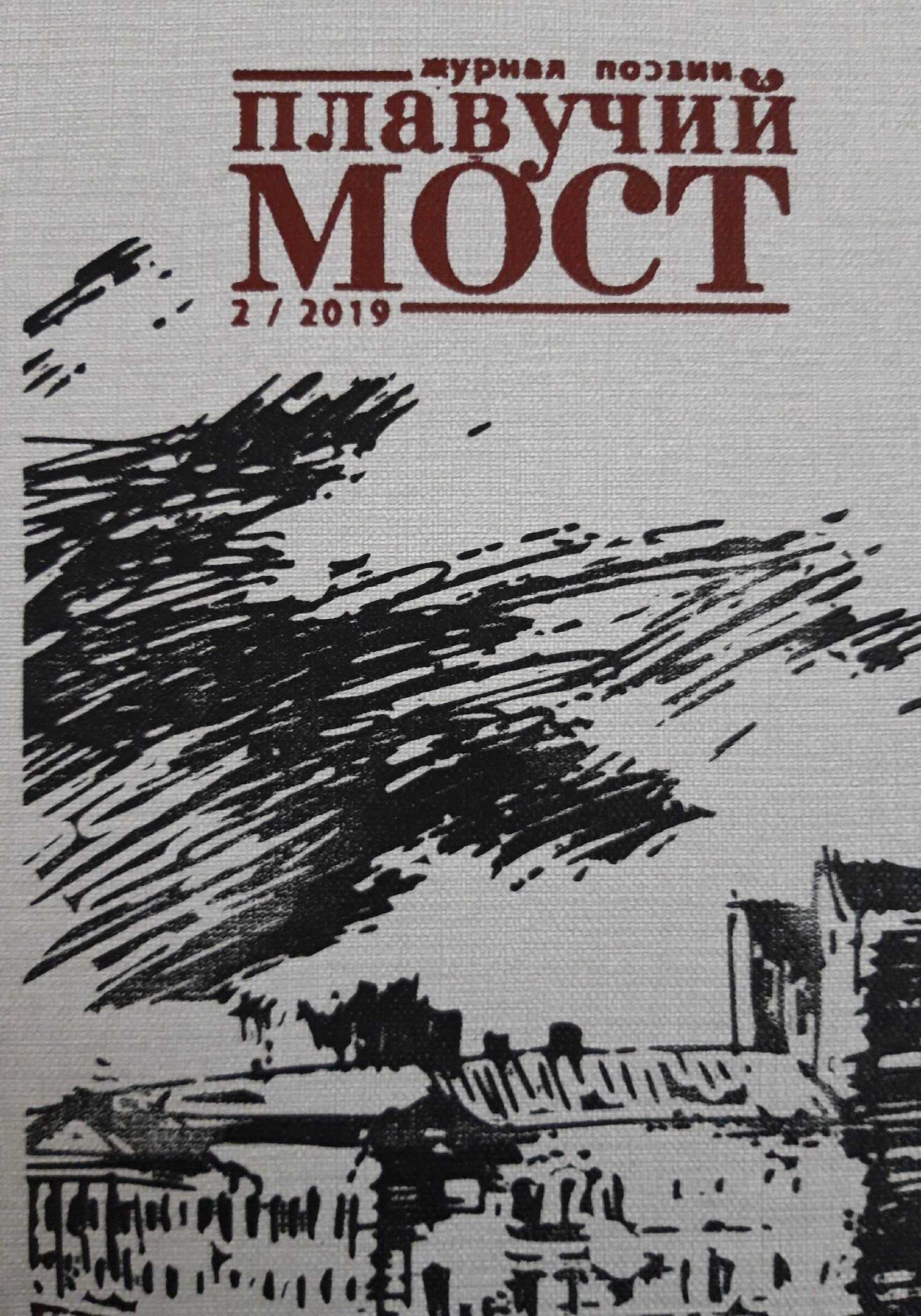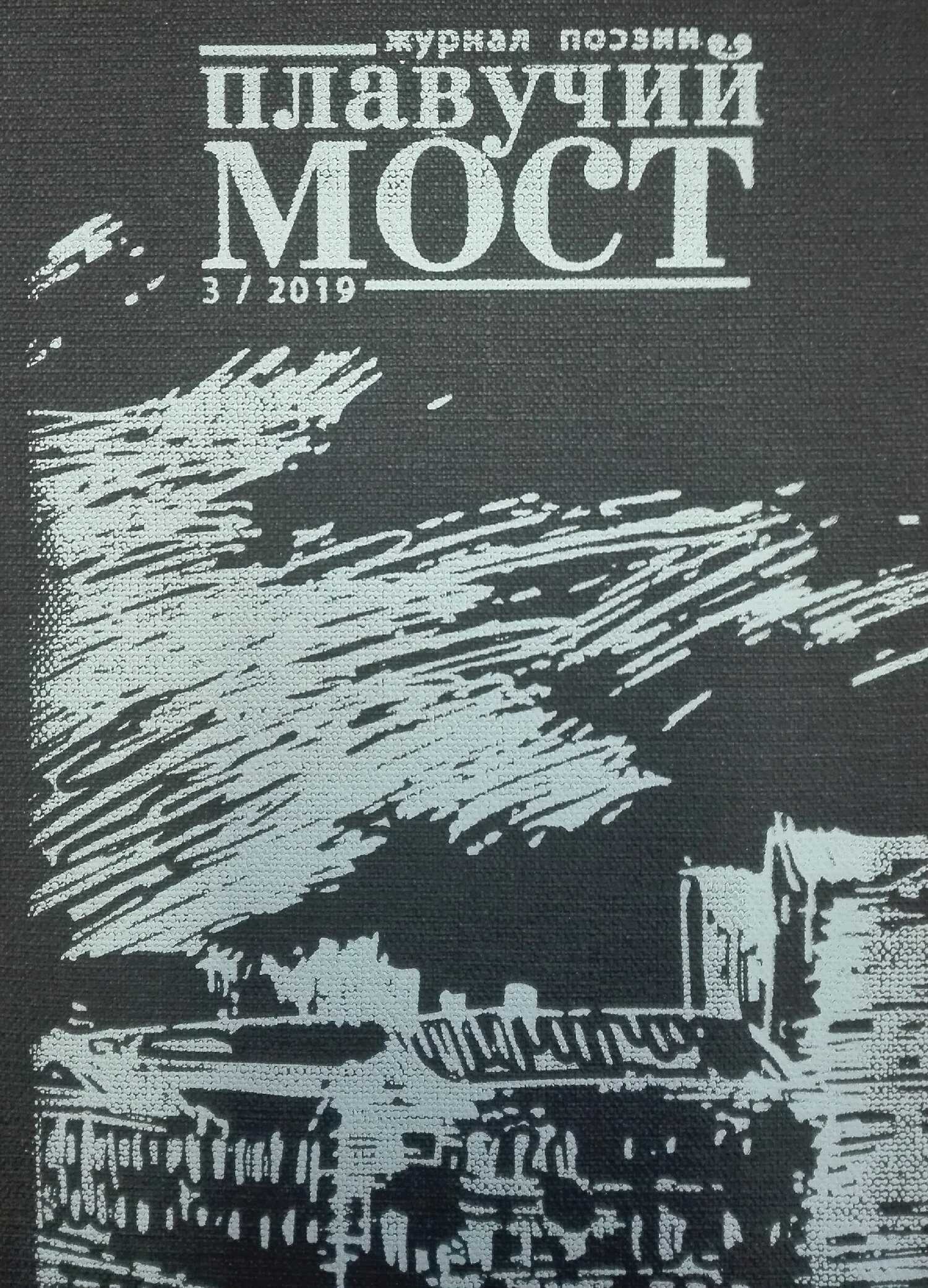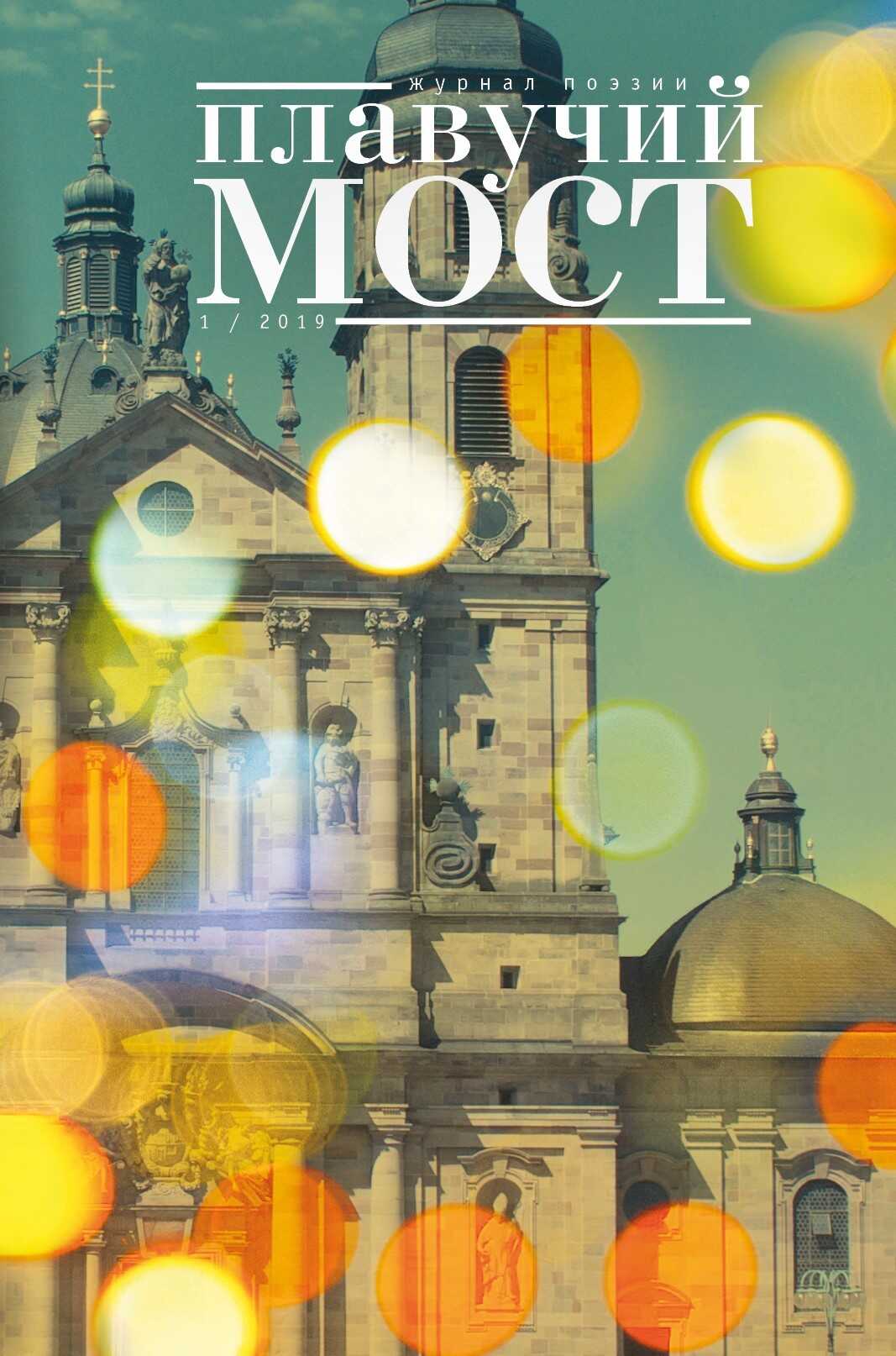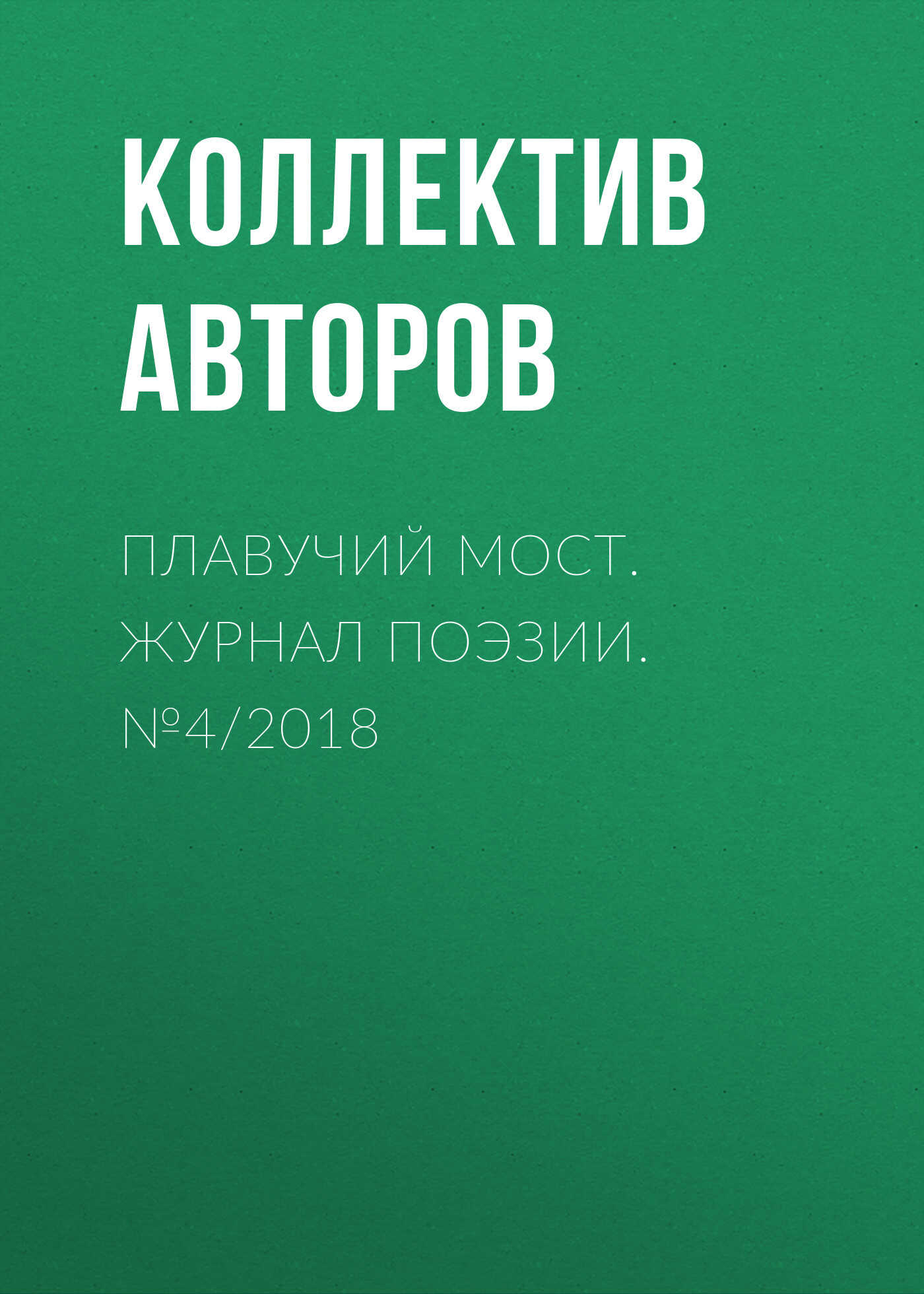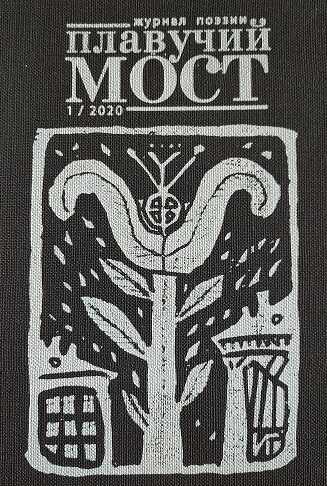в виду третье, обновленное и расширенное, издание «Антологии русского лиризма ХХ века» в трех томах, составленной Александром Васиным-Макаровым. Я думаю, поэт, пишущий по-русски, совершит ошибку, равнодушно пройдя мимо этой «принципиальной» книги. Уже при откликах на первые два издания (2000 и 2004 гг.) звучали голоса недоуменного скепсиса по поводу термина, вполне, впрочем, предсказуемые, поскольку быть русским поэтом, вероятно, уже давно не модно. «Литературная газета» сетовала: откуда взялось само это понятие, «в теоретических справочниках вы этого термина не найдете», и далее – иронические пассажи по поводу того, что Есенину и Куняеву в Антологии дано больше места, чем Бродскому и Мандельштаму, что в ней присутствует лирическое эссе Победоносцева, что «„лириками” по воле Васина стали философ Иван Солоневич, композитор Сергей Рахманинов, художник Иван Селиванов…» Удивительное дело, но разве же не очевидно, что особым ароматом русскости пропахло не только всё русское искусство, но и сама русская философичность, к счастью, не имеющая ничего общего с мозговой западноевропейской метафизикой. Традиционное понятие русского искусства, если его раскрыть изнутри-поэтически, непременно выведет на корень: на особое состояние русской души; но это я уже цитирую речь профессора Литературного института Владимира Смирнова на презентации Антологии в Доме русского зарубежья: «Мне особенно дорого присутствие в вашем замечательном, я бы даже сказал героическом, учительном и тонком деле великой тени великого Анненского. Это его волхвующее слово лиризм как состояние русской души…» И это состояние есть прежде всего кротость. Не притязание на мировые богатства, в чем бы они ни выражались.
Недавно я снова бродил по Третьяковской галерее в окружении того специфически русского пейзажа, который всю жизнь воспевал незабвенный Константин Паустовский. Религиозное чувство, которое струится на тебя из пейзажей Поленова, Куинджи, Саврасова, Васильева, Шишкина, Васнецова, Похитонова, Левитана, Грабаря, Рериха, Нестерова, ни с чем не спутаешь, оно не имеет аналогов.
Собственно, Антология и есть развернутое исповедание многообразных словесно выраженных форм русского лиризма.
2
Однако вернусь к важнейшему моменту обнаружения в Антологии «великой тени великого Анненского», который, собственно, и ввел в поэтические умы эпохи термин «русский лиризм». Вот почему, я полагаю, Иннокентию Анненскому в трехтомнике отдано больше места, чем Есенину и Рубцову, много больше, чем всем иным поэтам; уступает он только, пожалуй, Блоку, Клюеву и Д. Андрееву. В известном смысле Васин ставит Анненского во главу угла, начиная им (нарушив тем самым алфавитный принцип) Антологию. Принося за это читателю извинения, составитель пишет: «Но всё-таки первым и должен быть Первый». Такое огромное внимание к отнюдь не лапотной персоне должно было бы насторожить записных критиков, которым заранее всё ясно, и побудить к встречному вниманию. Тем более что Васин приводит фрагменты из статьи И. Анненского «О современном лиризме» (имеется в виду лиризм русский), где духовный учитель Ахматовой решительно отделил русский лиризм от словесной искусности и всех технологически-конструктивных (по истоку буржуазно-богемных) искусов: «…Всё это не столько лирики, как артисты поэтического слова». Припечатал. Анненский протестовал против наметившегося гибельного крена поэзии в виртуозное паясничанье, превращения того, что было на Руси потаённостью духовного опыта, в словесное искусство, «в мнения и мнительности», в изощренные танцы речевых само-упоений, устремленных на сцену.
В послесловии составитель объясняет (в качестве примера), почему он не включил многих известных поэтов или талантливых словесников. «В нашей Антологии нет стихов Черубины Д. Г. не потому, что они плохи. Они великолепны! Великолепные нерусские стихи на русском языке…» Или вот Брюсов отсутствует, тогдашний литературный генерал. Причина уже не в стихах, а в низменности человеческого облика Брюсова.
3
Замысел Антологии вполне осознан и целостно-зрел. В предисловии составитель пишет: «Идея Антологии – построить книгу русской жизни, выбрав из океана публикаций такие стихи, песни, отрывки писем, дневников, философских трактатов, фрагменты прозы, которые обладают особой тональностью, передающей ключевое, на мой взгляд, жизненное свойство русских людей – народный лиризм, то есть чувство первородной связи с землей и небом, приятие жизни, даже если она не слишком жалует тебя, ибо что-то врожденное подсказывает: всё видимое – только малая часть жизни иной, просторы которой и бередят веками русские сердца… Чувство чего-то неизмеримо большего, чем любое преуспеяние, толкает многих русских на странные поступки, часто сбивает с ног – спиваются, пропадают… Да песни наши, в которых тоска и тяга окаянная какая-то… куда?
Лиризм, о котором речь, – тип жизни, в которой преобладает не действие, а чувство, мечта… Возможно, русский лиризм, то есть реальная практическая народная философия (пусть и не сформулированная), стал основой народного характера, определившего такую историю нашей страны.
Природной религиозностью и народным иррационализмом, этим русским типом лада с жизнью, русский лиризм противостоит натиску роботных цивилизаций…» (сегодня такой вариант цивилизации на нас готов спустить российский премьер-министр).
И действительно, сегодня невозможно не видеть, что искусство «прогнулось» под западные клише; прогнулось без зазрения совести. И поэзия в том числе. Идея разукоренения, когда родиной объявляется весь мир (всё – значит ничто), где жадная ассимиляция модных эстетических моделей становится главным материалом «творческого процесса», стирает в прах исконность чувствования простых, почвенных вещей. Реликты народной души вытесняются модой на интеллектуализм в ходе всеобщего информационного самоотравления, представленного как карнавал.
Вот почему востребованность этой Антологии есть событие.
4
Что вело Васина-Макарова в его отборе? На презентации первого издания Антологии Вадим Кожинов говорил: «Невозможно не почувствовать, что то или иное стихотворение выбиралось не по литературным критериям (как это делается в других антологиях), а по какому-то глубокому жизненному переживанию!..» Сугубо русская, кстати, фраза. И одновременно очень точно фиксирующая сегодняшнюю расколотость земного антропологического вещества на два типа, где человек интеллектуальный, количественно доминирующий и властью владеющий, противостоит «маргинальности» человека экзистенциального. Однако не стану углубляться в эту громадную тему, скажу проще: Васин-Макаров исключает из критериев тот принцип эстетической красоты (то есть красоты товарной), который внутренне парализовал современную посткультуру. Что же вело составителя? Инстинкт этической красоты, то есть то, о чем у современных литературных критиков не принято даже вспоминать. Ибо всё бешенство цивилизации направлено на производство эстетических вибраций: броских, горделивых силуэтов, танцевальных прыжков, верчений вокруг оси, кричащих румян и пикантных пряностей. И потому нобелиат Бродский не мог не заявить (в качестве апологета западноевропейской культуры), что корневая вещь для поэзии – эстетика; этика же – всего лишь следствие. За малейшие промахи в эстетических диспозициях и калькуляциях, равно как за непризнание культуры богом (ежели таковое будет учуяно в стихах) поэт обязан каяться, за эти огрехи его могут не просто наказать иронией и улюлюканьем, но и отлучить от музы. В то же время уродства в сфере этической красоты