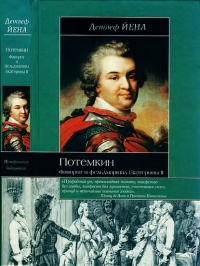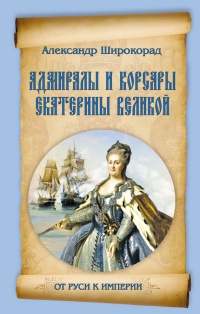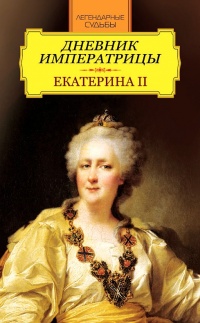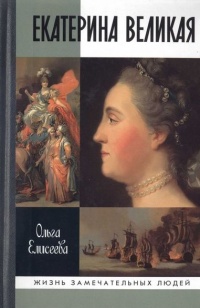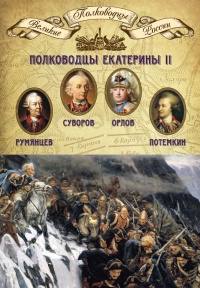Два гроба и сердца, судьбою разлучены, Соединяет сын, примерный из царей! Пад к императорским стопам его священным, Россия чтит пример любви сыновней сей… [64, 252].
Учитывая существовавшие в те годы строжайшие требования цензуры, вряд ли можно сомневаться в том, что текст этого сочинения был согласован с новым императором.
Настало время вспомнить о «копии» Ф. Ростопчина; подписываясь под присягой, Алексей Григорьевич еще не подозревал, что сообщники Павла найдут в бумагах Екатерины его «не существующее письмо».
Забытые имена
В дальнейшем нам придется часто обращаться к работам М. А. Корфа и Н. К. Шильдера. Насколько можно доверять этим двум историкам, предоставим право судить самому читателю.
Модест Андреевич Корф (1800–1876), окончив вместе с А. С. Пушкиным Царскосельский лицей, начинал службу в департаменте юстиции. Потом последовательно занимал должности помощника редактора и редактора в Комиссии составления законов, а с 1826 г. служил во втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которая фактически находилась под начальством М. М. Сперанского, называвшего впоследствии М. Корфа «лучшим нашим работником», владевшим к тому же «золотым пером».
Сперанский обратил внимание Николая I на способности молодого чиновника, и в июле 1827 г. Корф получает чин коллежского советника и одновременно придворное звание камергера, а еще через два года — статского советника. Затем М. Корф служил управляющим делами Комитета министров, а в апреле 1843 г. назначается членом Государственного совета.
Сблизившись с придворными кругами и императорской семьей, Модест Андреевич заслужил расположение к нему Николая I, отзывавшегося о нем как о «человеке в наших правилах», который «смотрит на вещи с нашей точки зрения».
В 1848 г. был учрежден так называемый Цензурный комитет, в состав которого М. Корф назначается членом, а в 1855–1856 гг. становится председателем и устанавливает жесткий контроль за средствами печати [60/1, 576].
Кроме того, Модест Андреевич был крупным ученым-историком, его избрали в почетные члены Петербургской Академии наук, основными его трудами являются «Восшествие на престол императора Николая I», «Жизнь графа Сперанского», «Брауншвейгское семейство» и другие. Проводившийся по личному поручению Александра II сбор материалов для издания книги о Николае I требовал обращения к многочисленным фондам различных архивов, вследствие чего к этой работе Корф привлек помощников, ближайшим из которых был Владимир Васильевич Стасов.
Рукопись «Брауншвейгское семейство» хранилась в библиотеке Зимнего дворца и доступ к ней имели в основном члены императорской фамилии. По понятным причинам она не могла быть опубликована во времена царской власти.
Забытая рукопись своим воскрешением обязана И. М. Смирновой и А. В. Шаврову при участии Ю. Б. Живцова, которые исследовали как документы, связанные с происхождением текста монографии из фондов М. А. Корфа и В. В. Стасова, так и два варианта рукописи. Одна из них находилась в фонде Стасова, другая — в фонде собирателя исторических документов и коллекционера А. Б. Лобанова-Ростовского [34, 16].
М. Корф, а по его поручению и В. Стасов, имевшие неограниченный доступ к императорскому архиву, собрали и систематизировали бесценные документы.
Сам Модест Андреевич вспоминал о разговоре с Николаем I, последовавшим сразу после назначения его директором Императорской публичной библиотеки. Когда заговорили о библиотеках и архивах, государь вспомнил «о хранящихся в Государственном архиве делах о цесаревиче Алексее Петровиче и о Таракановой…