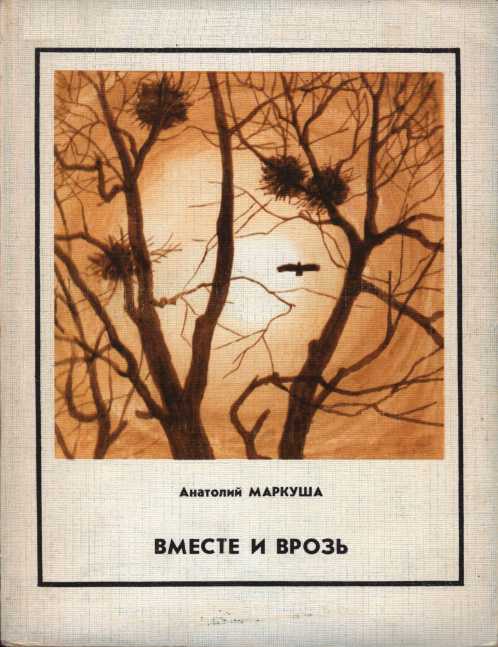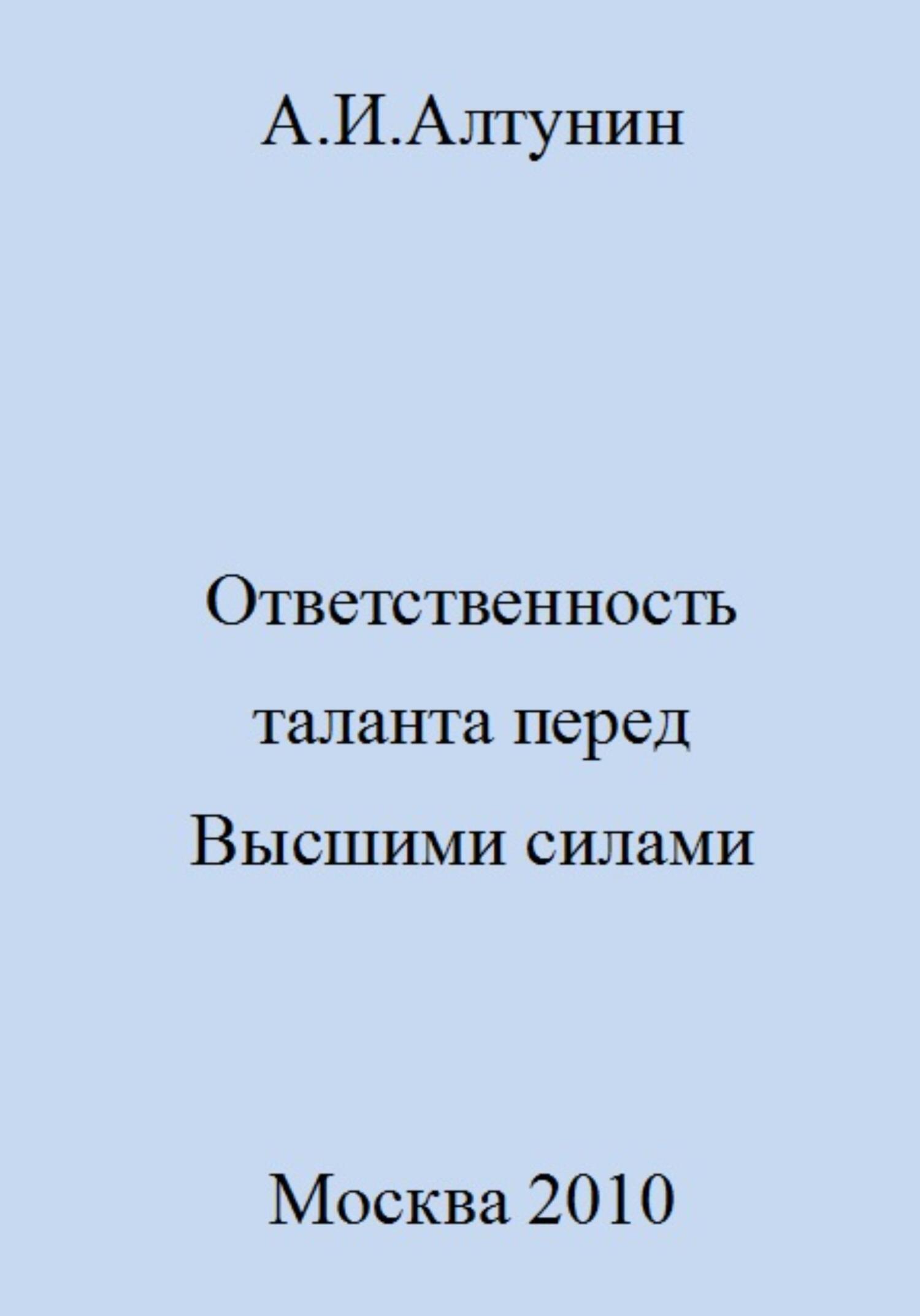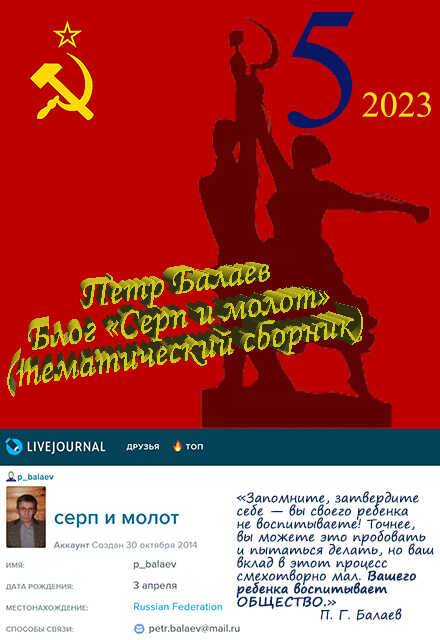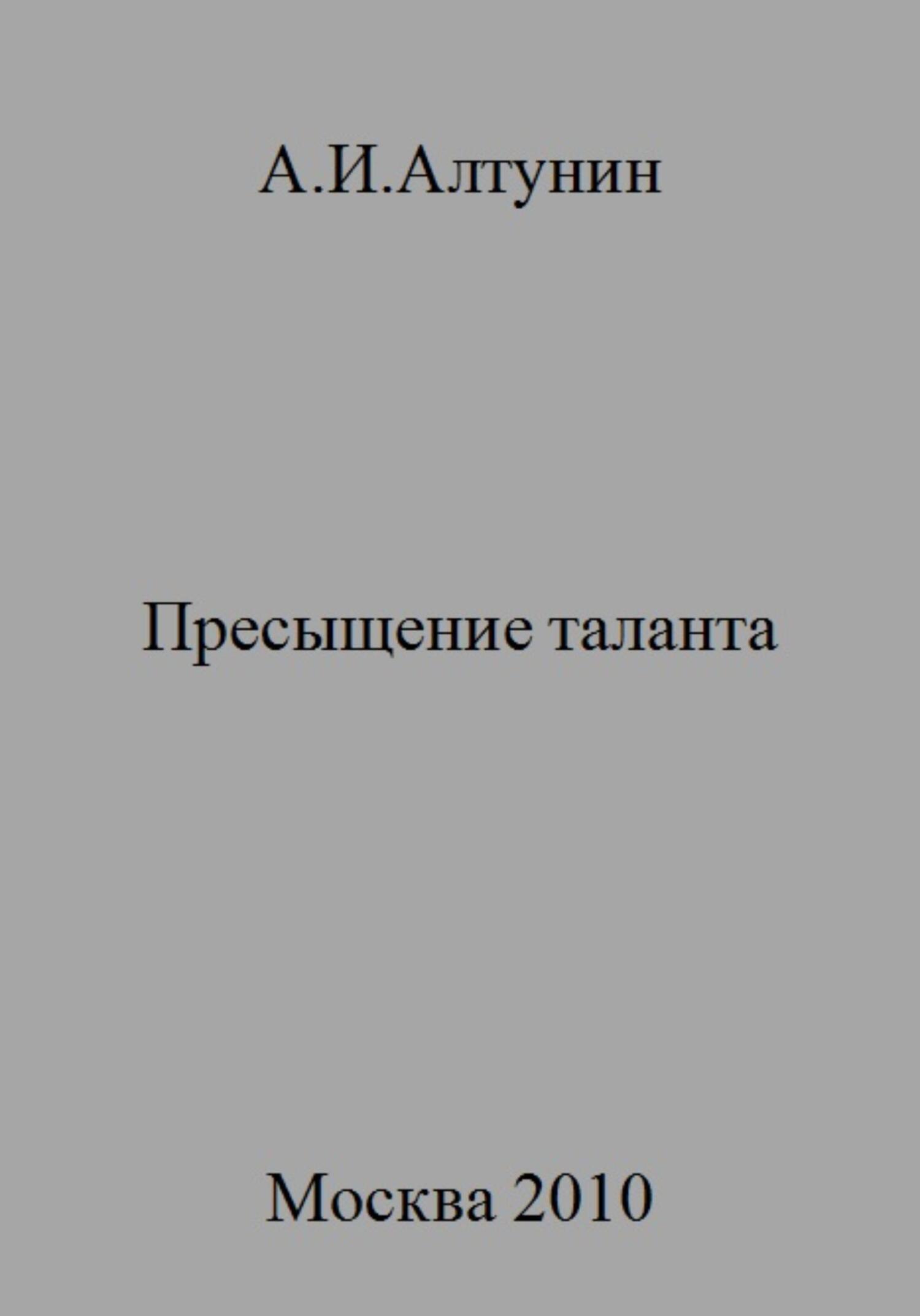соответствует?
Сраженный таким напором, я покорно подтвердил:
— Соответствует.
— Если не секрет, — о чем они пишут?
Я стал отвечать, но очень скоро почувствовал: содержание ребячьих писем посетительницу не занимает, и потому, как принято говорить, поспешил закруглиться.
— Прекрасно! — одобрила она мою оперативность. — А теперь скажите: вы отвечаете на все письма?
— Стараюсь, хотя, как вы, вероятно, можете попять, задача эта далеко не простая.
— Еще вопрос: а, собственно, для чего вы им отвечаете? Только, чур, откровенно!
— Как для чего?.. — несколько растерялся я. — Раз люди обращаются, они, надо думать, ждут ответа, рассчитывают получить или совет, или какую-то информацию, бывает, нужна человеку помощь…
— Теперь последнее: много ли материала для своих книг вы извлекаете из ребячьих писем? Вы понимаете, о чем я?
Нет, я не рассердился, просто мне сделалось вдруг смешно, и я постарался ответить самым серьезным образом:
— Ну как вам сказать… почти все, что я написал за последние двадцать с лишним лет, так или иначе подсказано ребятами. Прежде всего — факты…
Только теперь посетительница начала записывать. Она не поднимала головы, не поправляла волос, спадавших на лицо, карандаш ее веселой птицей порхал над блокнотом.
А я продолжал:
— Из детской почты я постоянно извлекаю занятные ситуации, характерные словечки и, разумеется, идеи.
— Как вы сказали? Идеи? — Она смотрела на меня откровенно подозрительно. — Но какие, собственно, у этих недорослей могут быть идеи? Идеи — это же о-го-го какой масштабчик!..
Пожалуй, здесь я могу со спокойной совестью расстаться с самоуверенной девицей-репортером, предварительно поблагодарив ее за нечаянный подарок, — она надоумила меня на разговор об идеях, занимающих ребячьи головы.
Прежде и чаще всего ребят интересует проблема взаимоотношений коллектива и личности.
Пусть шести-семиклассники не всегда четко формулируют свою мысль в письмах, но мы вполне можем и должны понять, что же скрывается за такими, например, строчками:
У нас в классе все какие-то очень уж недружные собрались. Станешь им что-нибудь интересное предлагать, сразу поднимают на смех: что, тебе больше всех надо? Чего лезешь? А может, мне и правда больше, чем другим, нужно, разве это плохо? (Чебоксары. Саша К., 6-й класс)
Другое письмо:
Был у нас большой спор. Спорили мы, спорили, и все говорили одно, только я — другое. И Анна Павловна велела мне замолчать. Она сказала так: «Ты обязательно хочешь быть умнее всех…» Так вот, скажите, правильно я сделал, что замолчал, «заткнулся», если все равно думаю — а прав-то я, я, а не другие? И вообще, почему считается — все вместе говорят обязательно правильно, а тот, кто сам по себе, — только глупости? (Брянск. Витя Р., 7-й класс)
И еще:
Мой отец ругается, когда я задерживаюсь в школе и прихожу домой позже других. А чем я виновата? У нас в зоокружке все сначала дружно работали, а потом перессорились. Понимаете? Но ведь зайцы, белка и другие животные не виноваты… Ребята не желают выполнять график дежурств, вот и приходится мне. Остаюсь и кормлю зверье и убираю клетки. Жалко ведь их. А отец ничего не желает слушать…
Как мне быть дальше? Не могу я животных бросить. Это будет предательство. (Житомир. Таня Л., 6-й класс)
Как видите, за повседневными, будничными эпизодами скрываются далеко не пустяковые проблемы, которые беспокоят и нас, взрослых.
Воспитатели любят толковать о личности ребенка, о сложности ее формирования, о болезненном порой возмужании. Все это верно, и ребячьи письма тому подтверждение.
Вы пишете: надо быть мужественным, волевым и сильным. Согласен, конечно надо. И хорошо было тем, кто попал в свое время на войну — они сразу могли проверить себя, совершив подвиг или если не подвиг, то хотя бы смелый поступок. А нам как быть? Как в обыкновенной жизни, в этой скучнотище, узнать, на что ты годишься? Ведь не каждому так повезет, что он сумеет спасти тонущего в реке товарища или, допустим, вытащить из горящего дома ребенка? (Саратов. Слава П. 6-й класс),
За великолепной наивностью этих слов не только ребячье беспокойство, но и упрек нам, взрослым. Не слишком ли часто мы изображаем человеческое мужество непременной чертой лишь военного времени, выражавшееся полнее всего в актах высокого, исключительного, сознательного самопожертвования?
Может быть, следовало бы больше и, главное, убедительнее рассказывать ребятам о проявлении сильной воли, упорства, настойчивости — об этих непременных компонентах мужества в условиях обыденных, не подсвеченных пожарами боевых действий, не сопровождаемых громом артиллерийских батарей и томительным воем штурмующих самолетов?
Мне всегда представлялось, что, рассказывая ребятам о людях исключительной судьбы, героях, не стоит упускать каких-то мелких бытовых черточек, их повседневных привычек, привязанностей… Ребятам очень важно ощущать: герои наши не витают в облаках славы, они — земные, такие же, как ты, как он. Только таким образом мы сумеем поселить в ребячьих душах уверенность: подняться на вершины отваги и мужества способен и ты, и твой сосед Ваня, и твоя одноклассница Люся.
Отвечая на письма, в которых авторы тоскуют по возможности проявить удаль, отвагу, я не устаю повторять замечательные слова художника Александра Дейнеки: «Спорт — начало героического». И всячески стараюсь подтолкнуть моих корреспондентов к занятию слаломом, альпинизмом, боксом…
Человеку, в совершенстве владеющему своей волей, уверенно управляющему своим телом, куда легче бывает в жизни, когда наступает миг исполнения ответственных решений… Вот почему я за спорт.
Приглашаю в союзники заслуженного мастера спорта Д. Рудмана — в недалеком прошлом одного из выдающихся самбистов мира, ныне тренера и воспитателя будущих самбистов.
С удивительной любовью и пониманием говорит он о своих подопечных мальчишках: «Я хочу им помочь понять ценность человеческого труда, силу мужской дружбы. Я хочу, чтобы они стали мужественными людьми. Имели бы свою точку зрения, даже если им сегодня всего по одиннадцать лет.
Понимаю: не станут все они чемпионами. Не все будут мастерами спорта. Но я знаю, что всем им спорт поможет найти и оценить себя. Ведь только в спорте можно увидеть маленького человека, который ежедневно заставляет себя делать зарядку, который три раза в неделю, самоотверженно трудясь, теряет за тренировку килограмм-полтора веса, который заставляет себя выучить уроки, потому что с двойкой его не допустят до соревнования или отстранят от тренировки. Он с отвращением смотрит на пьющих в подворотне людей и, став старше, не будет этого делать, потому что ему это не надо. Спорт учит уже в одиннадцать лет понимать слова „надо“, „можно“, „нельзя“.
Маленький человек трудно воспринимает абстрактные требования взрослых: учись хорошо, слушайся старших, имей цель в жизни.
В спорте все не абстрактно: надо хорошо учиться — и тогда