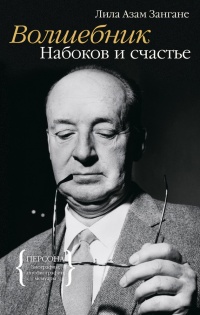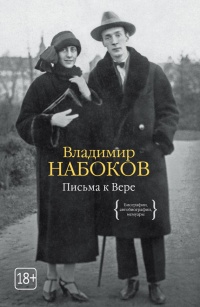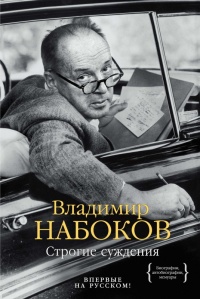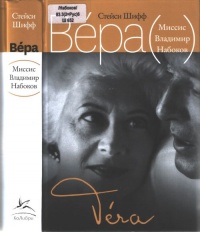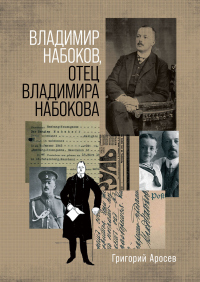Слаб человек; покорствуя уделу,Он рад искать покоя, – потомуДам беспокойного я спутника ему:Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!
В главе XIV «Приглашения на казнь» монолог м-сье Пьера, обращенный к Цинциннату, о наслаждениях жизни является пародийным отражением речей Мефистофеля. Характерно и соответствующее восклицание м-сье Пьера: «…незабвенное воспоминание… заставляет крикнуть: “О, вернись, вернись; дай еще раз пережить тебя”» – отражение знаменитой реплики из трагедии Гёте. Как пародийное воспроизведение рокового желания остановить мгновение понимается и страсть палача к фотографии. «Фотография и рыбная ловля – вот главные мои увлечения», – признается м-сье Пьер на ужине перед казнью. Значение этого увлечения раскрывается в последнем снимке на ужине: «Перед уходом гостей хозяин предложил снять м-сье Пьера и Цинцинната у балюстрады […] Световой взрыв озарил белый профиль Цинцинната и безглазое лицо рядом с ним».
Отсылка к «Фаусту», на этот раз к оперному варианту трагедии, подкреплена и эпизодическими образами. В главе II «Приглашения на казнь» Родион, «приняв фальшиво-развязанную позу оперных гуляк в сцене погребка […] баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой […] Дальше он уже пел хором, хотя был один».
Текстом-адресатом аллюзии, которую представляет данная сцена, является знаменитая «Песня о крысе», исполняемая Брендером, второстепенным, как и Родион, персонажем в сцене погребка Ауэрбаха в драматической легенде Г. Берлиоза «Осуждение Фауста». В ее основу лег измененный текст Гёте. В песне высмеивается обреченная на гибель крыса. Повар отравил ее ядом, она мечется в смертном ужасе по замкнутому пространству дома, словно охваченная любовью. (Замечу, что во французском оригинале оперного либретто крыса – мужского рода.) Содержание песни прочитывается как гротескное отражение романной ситуации. Добавлю также, что традиционные декорации первого акта «Осуждения Фауста» представляют веранду, выходящую на цветущие поля и вдали крепость на горе. У Набокова: «…город, из каждой точки которого была видна […] высокая крепость, внутри которой он сейчас находился».
Аллюзия на музыкальные варианты «Фауста» (в частности, на одну из первых «Песен» Ф. Шуберта «Маргарита за прялкой») обнаруживается и в первой части романного диптиха, в «Жизни Чернышевского». В «Даре» читаем о том, что Чернышевский в молодости, когда «бывали томные, смутные вечера […] начинал петь, завывающим фальшивым голосом, – пел “Песню Маргариты”».
Опера как жанр искусства «призывается» Набоковым в качестве референтного текста романа потому, что использовалась Чернышевским в «Что делать?» в качестве идеологического аргумента реальности всеобщего счастья:
«…чистейший вздор, – писал он, – что идиллия недоступна. Она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная, очень возможная; ничего трудного бы не было устроить ее, но только не для одного человека… а для всех. Ведь и итальянская опера – вещь невозможная для пяти человек, а для целого Петербурга – очень возможная, как всем видно и слышно».
Реализацию этой театрализованной, показательной идиллии и осуществил Владимир Набоков в своем романе «Приглашение на казнь».
Глава VIII
Роман-оборотень
«Дар»И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
А. Пушкин. Евгений Онегин…И моя странная муза,
Мой оборотень, везде со мной…[193]
В. Набоков. Бледный огонь1
Исследователи творчества В. Набокова отмечают строгую композиционную вымеренность и завершенность его произведений. Эта черта просматривается и в отдельных периодах, в частности – в «русском». Романы, написанные Набоковым в Европе, замыкаются тематическим кольцом. Как в первом, «Машенька», так и в последнем романе, написанном на русском, «Дар» (1937–1938 годы), герой – молодой литератор. Но в «Машеньке» его творчество остается за пределами повествования, герой предается мечтаниям, воспоминаниям, но не сочинительству. А в последнем «русском» романе «Дар» именно литературное творчество героя составляет текст повествования.